Система вещей: Книга: «Система вещей» — Жан Бодрийяр. Купить книгу, читать рецензии | Le systeme des objets | ISBN 978-5-386-13694-9
|
«Система вещей» вышла впервые в 1968 году и сразу принесла славу своему автору, французскому учёному и эссеисту Жану Бодрийяру. Целая сфера современного общественного быта — потребление вещей — открылась в ней для исследования строгими научными методами и одновременно для глубокой социальной критики. Потребление, по мысли Бодрийяра, — это характерно современный феномен, определяющий признак так называемого общества изобилия. В таком обществе использование вещей не исчерпывается их простым практическим применением (какое имело место всегда и всюду) или даже их семиотическим применением как знаков отличия, богатства, престижа и так далее (что тоже встречается во всех человеческих обществах). Потребление — это интенсивный процесс выбора, организации и регулярного обновления бытовых вещей, в котором неизбежно участвует каждый член общества. Приобретая вещи, человек стремится к вечно ускользающему идеалу — модному образцу-модели, опережает время благодаря покупке в кредит, пытается зафиксировать и присвоить себе время, собирая старинные, коллекционные вещи. «Система вещей» вышла в пору расцвета французского структурализма и поначалу могла восприниматься как одно из произведений этого научного направления. Однако первая книга Бодрийяра уже содержит в себе и неявную критику структурализма: дело в том, что системное манипулирование вещами-знаками, которым занимается структуралист-аналитик, имеет себе соответствие и на уровне самого «общества потребления» — например, в той же деятельности коллекционера. В «Системе вещей» впервые вводится, хотя и без чёткого определения, это центральное понятие зрелого Бодрийяра — «симулякр», то есть ложное подобие, условный знак чего-либо, функционирующий в обществе как его заместитель. Примеры, приводимые автором книги (например, симулякр природности, которой искусственно окружает себя отдыхающий «на лоне природы» отпускник, или же симулякр истории, ностальгически обустраиваемый хозяином современного дома путём включения в его конструкцию остатков старинной фермы, разрушенной при его строительстве), показывают, что он и здесь исходит из размышлений Р. Барта об обманчивой «натурализации» идеологических значений, о превращении реальной природы (или же истории) в условный знак природности или историчности. В позднейших своих работах — и, пожалуй, только в этом отношении «Система вещей» может считаться его «ранней» книгой — Бодрийяр был вынужден оставить идею «настоящей» технической реальности вещей, опираясь на которую можно было бы вести критику неподлинных подобий; симулякры у него всё более и более заполняют мир, не давая никакого доступа к «подлинности». Первая книга Жана Бодрийяра, как и вообще его творчество, отличается ясностью изложения, парадоксальным остроумием мысли, блеском литературно-эссеистического стиля. В ней новаторски ставятся наиболее важные проблемы социологии, философии, психоанализа, семиотики и искусствознания. Для России, с запозданием приобщившейся или приобщающейся к строю общества потребления, эта книга сегодня особенно актуальна, помогая трезво оценить человеческие возможности подобного общества, перспективы личностного самоосуществления живущих в нём людей. С. Н. Зенкин. |
СИСТЕМА ВЕЩЕЙ | это… Что такое СИСТЕМА ВЕЩЕЙ?
ТолкованиеПеревод
- СИСТЕМА ВЕЩЕЙ
-
’СИСТЕМА ВЕЩЕЙ’
(‘Le system des objets’, 1968) — одна из первых работ Бодрийяра, намечающая всю дальнейшую проблематику его творчества и представляющая собой развернутую критику ‘общества потребления’ на основе социологизации коннотативной семиологии Р. Барта. Помимо очевидного влияния последнего (например, ‘Нулевой степени письма’, ‘Системы моды’, ‘Мифологий’) также прослеживаются следы идей К.Леви-Стросса, М.Мосса, Лакана, Маркузе и др. Во многом заимствуя марксистскую и психоаналитическую фразеологию, Бодрийяр, тем не менее, дистанцируется от структуралистской интерпретации марксизма и психоанализа. Данная установка позволяет Бодрийяру предвосхитить критику постмодернизма изнутри и зафиксировать воплощение концептуальных построений и мифологем постструктурализма на ‘реальном’, объектном, иначе — вещном уровне. В то же время Бодрийяра интересуют не столько сами вещи, ‘определяемые в зависимости от их функции или же разделенные на те или иные классы для удобства анализа, но процессы человеческих взаимоотношений, систематика возникающих отсюда человеческих поступков и связей’. При этом основное внимание уделяется не технологии, представляющей нечто существенное, ‘глубинный уровень вещей’ или денотат, что потребовало бы выявления ‘технем’ по аналогии с морфемами и фонемами, а нарушениям связности технологической системы, т.
Барта. Помимо очевидного влияния последнего (например, ‘Нулевой степени письма’, ‘Системы моды’, ‘Мифологий’) также прослеживаются следы идей К.Леви-Стросса, М.Мосса, Лакана, Маркузе и др. Во многом заимствуя марксистскую и психоаналитическую фразеологию, Бодрийяр, тем не менее, дистанцируется от структуралистской интерпретации марксизма и психоанализа. Данная установка позволяет Бодрийяру предвосхитить критику постмодернизма изнутри и зафиксировать воплощение концептуальных построений и мифологем постструктурализма на ‘реальном’, объектном, иначе — вещном уровне. В то же время Бодрийяра интересуют не столько сами вещи, ‘определяемые в зависимости от их функции или же разделенные на те или иные классы для удобства анализа, но процессы человеческих взаимоотношений, систематика возникающих отсюда человеческих поступков и связей’. При этом основное внимание уделяется не технологии, представляющей нечто существенное, ‘глубинный уровень вещей’ или денотат, что потребовало бы выявления ‘технем’ по аналогии с морфемами и фонемами, а нарушениям связности технологической системы, т.
 Функциональная система задается оппозицией расстановки и среды. Если технический императив дискурса расстановки предполагает смыслы игры и исчислимости функций вещей, то культурный дискурс среды — исчислимость красок, материалов, форм и пространства. По сравнению с традиционной обстановкой, где ‘действует тенденция занять, загромоздить все пространство, сделать его замкнутым’, а согласованность и монофункциональность вещей символизируют семейные и социальные структуры патриархата; обстановка современная состоит исключительно из вещей, приведенных к нулевой степени и освобожденных в своей функции. ‘Буржуазная столовая обладала структурностью, но то была замкнутая структура. Функциональная обстановка более открыта, более свободна, зато лишена структурности, раздроблена на различные свои функции’. ‘Таинственно уникальное’ отношение к вещи, служившей знаком личности ее обладателя, сменяется конструктивным отношением организатора порядка и сводится лишь к размещению и комбинаторной игре вещей.
Функциональная система задается оппозицией расстановки и среды. Если технический императив дискурса расстановки предполагает смыслы игры и исчислимости функций вещей, то культурный дискурс среды — исчислимость красок, материалов, форм и пространства. По сравнению с традиционной обстановкой, где ‘действует тенденция занять, загромоздить все пространство, сделать его замкнутым’, а согласованность и монофункциональность вещей символизируют семейные и социальные структуры патриархата; обстановка современная состоит исключительно из вещей, приведенных к нулевой степени и освобожденных в своей функции. ‘Буржуазная столовая обладала структурностью, но то была замкнутая структура. Функциональная обстановка более открыта, более свободна, зато лишена структурности, раздроблена на различные свои функции’. ‘Таинственно уникальное’ отношение к вещи, служившей знаком личности ее обладателя, сменяется конструктивным отношением организатора порядка и сводится лишь к размещению и комбинаторной игре вещей.
 ‘Смерть Автора’). В структурах среды краска подчиняется исчислимому бинарному коду теплого и холодного, задающему комбинаторику оттенков. Яркая краска трансформируется в пастельные тона и выступает ‘более или менее сложным условием задачи в ряде других, одним из составных элементов общего решения’. По мнению Бодрийяра, ‘именно в этом состоит ее функциональность, то есть абстрагированность и исчислимость’. Поэтому даже традиционные, природные краски и материалы выступают лишь в качестве маркера идеи Природы, или ‘природности’. ‘Домашнюю среду преобразует не ‘настоящая’ природа, а отпускной быт — это симулякр природы, изнанка быта будничного, живущая не природой, а Идеей Природы; по отношению к первичной будничной среде отпуск выступает как модель и проецирует на нее свои краски’. Подобное освобождение от ‘природной символики’ намечает переход к полиморфности и снимает оппозицию натурального и синтетического как ‘оппозицию моральную’. ‘В чем, собственно, ‘неподлинность’ бетона по сравнению с камнем?’ В этом смысле разнородные сами по себе краски и материалы в силу своей абстрактности оказываются однородными в качестве знаков культуры и могут образовывать связную интегрированную систему.
‘Смерть Автора’). В структурах среды краска подчиняется исчислимому бинарному коду теплого и холодного, задающему комбинаторику оттенков. Яркая краска трансформируется в пастельные тона и выступает ‘более или менее сложным условием задачи в ряде других, одним из составных элементов общего решения’. По мнению Бодрийяра, ‘именно в этом состоит ее функциональность, то есть абстрагированность и исчислимость’. Поэтому даже традиционные, природные краски и материалы выступают лишь в качестве маркера идеи Природы, или ‘природности’. ‘Домашнюю среду преобразует не ‘настоящая’ природа, а отпускной быт — это симулякр природы, изнанка быта будничного, живущая не природой, а Идеей Природы; по отношению к первичной будничной среде отпуск выступает как модель и проецирует на нее свои краски’. Подобное освобождение от ‘природной символики’ намечает переход к полиморфности и снимает оппозицию натурального и синтетического как ‘оппозицию моральную’. ‘В чем, собственно, ‘неподлинность’ бетона по сравнению с камнем?’ В этом смысле разнородные сами по себе краски и материалы в силу своей абстрактности оказываются однородными в качестве знаков культуры и могут образовывать связную интегрированную систему. ‘Абстрактность делает их подвластными любым сочетаниям’. С другой стороны, сущность системы наиболее полно выражается в широком применении стекла. В стекле — нулевой степени материала — сосредоточена, по мнению Бодрийяра, мифологическая ‘двойственность среды’. Стекло означает близость и дистанцию, ‘прозрачность без проницаемости’, благодаря чему оно становится идеальной упаковкой. Посредством прозрачных стен ‘весь мир вводится в рамки домашнего мирка как зрелище’. Но также и человеческое отношение, возникающее в структурах расстановки и среды, становится мифологизированным, определяется мерцающим чередованием интимности-дистантности и оказывается подвижно-функциональным, ‘то есть в любой момент возможным, но субъективно нефиксированным, разные типы отношений должны обладать свободой взаимного обмена’ (позднее такое отношение было осмыслено Бодрийяром как ‘cool’, или прохладное). Таким образом, функциональная система среды и расстановки представляет собой децентрализированное пространство сообщающихся (сочетающихся, коммуницирующих) между собой вещей и цветовых пятен (ср.
‘Абстрактность делает их подвластными любым сочетаниям’. С другой стороны, сущность системы наиболее полно выражается в широком применении стекла. В стекле — нулевой степени материала — сосредоточена, по мнению Бодрийяра, мифологическая ‘двойственность среды’. Стекло означает близость и дистанцию, ‘прозрачность без проницаемости’, благодаря чему оно становится идеальной упаковкой. Посредством прозрачных стен ‘весь мир вводится в рамки домашнего мирка как зрелище’. Но также и человеческое отношение, возникающее в структурах расстановки и среды, становится мифологизированным, определяется мерцающим чередованием интимности-дистантности и оказывается подвижно-функциональным, ‘то есть в любой момент возможным, но субъективно нефиксированным, разные типы отношений должны обладать свободой взаимного обмена’ (позднее такое отношение было осмыслено Бодрийяром как ‘cool’, или прохладное). Таким образом, функциональная система среды и расстановки представляет собой децентрализированное пространство сообщающихся (сочетающихся, коммуницирующих) между собой вещей и цветовых пятен (ср. Ризома). Такая система за счет нарастающей дифференциации функций осуществляет преобразование глубины в поверхность, жестуальности усилия в жестуальность контроля. Если ранее домашний очаг выполнял функции освещения, обогрева и приготовления пищи, то затем кухонная плита берет на себя их часть и, наконец, возникает многообразие предметов, каждый из которых предназначен для выполнения какой-либо одной операции. То, что в трудовой жестуальности сублимировалось (а значит, символически реализовывалось), сегодня просто вытесняется. Система становится ‘дискретным полем функциональных ассоциаций’, питаемых абстрактной энергией (например, электричеством) и абстрактным мышлением. Символическое измерение этой системы, постулирует Бодрийяр, равно нулю. ‘Человеческое тело теперь наделяет вещи лишь знаками своего присутствия, а в остальном они функционируют автономно’. Человеку среды и расстановки соответствует ‘человек функциональный’, у которого ‘первично-телесные функции отступают на второй план перед функциями окультуренными’.
Ризома). Такая система за счет нарастающей дифференциации функций осуществляет преобразование глубины в поверхность, жестуальности усилия в жестуальность контроля. Если ранее домашний очаг выполнял функции освещения, обогрева и приготовления пищи, то затем кухонная плита берет на себя их часть и, наконец, возникает многообразие предметов, каждый из которых предназначен для выполнения какой-либо одной операции. То, что в трудовой жестуальности сублимировалось (а значит, символически реализовывалось), сегодня просто вытесняется. Система становится ‘дискретным полем функциональных ассоциаций’, питаемых абстрактной энергией (например, электричеством) и абстрактным мышлением. Символическое измерение этой системы, постулирует Бодрийяр, равно нулю. ‘Человеческое тело теперь наделяет вещи лишь знаками своего присутствия, а в остальном они функционируют автономно’. Человеку среды и расстановки соответствует ‘человек функциональный’, у которого ‘первично-телесные функции отступают на второй план перед функциями окультуренными’. Причем эта ‘окультуренная’ симулятивная функциональность, или функциональность ‘второго плана’, означает исключительно приспособленность одной формы к другой, т.е. определяется степенью включенности в абстрактную систему культуры. Выводом, который делает Бодрийяр, является: ‘если симулякр столь хорошо симулирует реальность, что начинает эффективно ее регулировать, то ведь тогда, по отношению к такому симулякру, уже сам человек становится абстракцией!’ Установки функциональной и внефункциональной систем являются, согласно Бодрийяру, взаимодополнительными и способствуют интеграции целого; вещь старинная или экзотическая, которая на первый взгляд не вписывается в абстрактно-исчислимое знаковое отношение, также обретает двойственный смысл. Природность вещи в первой оборачивается ее историчностью во второй (т.е. подобно тому, как Природа отрицается природностью, так и История отрицается историчностью). Стремление к подлинности, возрождение мифа о первоначале, реставрирование являются по сути поисками алиби или ино-бытия системы.
Причем эта ‘окультуренная’ симулятивная функциональность, или функциональность ‘второго плана’, означает исключительно приспособленность одной формы к другой, т.е. определяется степенью включенности в абстрактную систему культуры. Выводом, который делает Бодрийяр, является: ‘если симулякр столь хорошо симулирует реальность, что начинает эффективно ее регулировать, то ведь тогда, по отношению к такому симулякру, уже сам человек становится абстракцией!’ Установки функциональной и внефункциональной систем являются, согласно Бодрийяру, взаимодополнительными и способствуют интеграции целого; вещь старинная или экзотическая, которая на первый взгляд не вписывается в абстрактно-исчислимое знаковое отношение, также обретает двойственный смысл. Природность вещи в первой оборачивается ее историчностью во второй (т.е. подобно тому, как Природа отрицается природностью, так и История отрицается историчностью). Стремление к подлинности, возрождение мифа о первоначале, реставрирование являются по сути поисками алиби или ино-бытия системы. ‘Чтобы достигнуть равновесия, система распадается на формально противоречивые, а по сути взаимодополнительные члены’. И если функциональный предмет является небытийностью, то в предмете мифологическом, минимально функциональном и максимально значимом ‘символизируется внутренняя трансцендентность реальности’; этот ‘фантазм сублимированной подлинности’ представляет собой регрессивный дискурс, обращенный уже не к другим, а к себе, отсылающий к детству, предкам, природе. ‘В рамках цивилизации, где синхрония и диахрония стремятся к всеобъемлющему систематическому контролю над действительностью, она образует (как в плане вещей, так и в плане поступков и социальных структур) третье, анахроническое измерение. Свидетельствуя о том, что системность дает осечку, это регрессивное измерение тем не менее в этой же самой системе и укрывается, парадоксальным образом позволяя ей функционировать’. Такую цивилизация Бодрийяр определяет как цивилизацию ‘культурного неоимпериализма’: набор современных форм потребления дополняется набором форм потребления прошлого или географически и исторически отдаленного экзотического.
‘Чтобы достигнуть равновесия, система распадается на формально противоречивые, а по сути взаимодополнительные члены’. И если функциональный предмет является небытийностью, то в предмете мифологическом, минимально функциональном и максимально значимом ‘символизируется внутренняя трансцендентность реальности’; этот ‘фантазм сублимированной подлинности’ представляет собой регрессивный дискурс, обращенный уже не к другим, а к себе, отсылающий к детству, предкам, природе. ‘В рамках цивилизации, где синхрония и диахрония стремятся к всеобъемлющему систематическому контролю над действительностью, она образует (как в плане вещей, так и в плане поступков и социальных структур) третье, анахроническое измерение. Свидетельствуя о том, что системность дает осечку, это регрессивное измерение тем не менее в этой же самой системе и укрывается, парадоксальным образом позволяя ей функционировать’. Такую цивилизация Бодрийяр определяет как цивилизацию ‘культурного неоимпериализма’: набор современных форм потребления дополняется набором форм потребления прошлого или географически и исторически отдаленного экзотического. В то же время, по Бодрийяру, каждая вещь имеет две функции, находящихся в обратном соотношении, — быть используемой и быть обладаемой. Первая связана ‘с полем практической тотализации мира субъектом’, вторая — ‘со стремлением к абстрактной самототализации субъекта вне мира’. Серия маргинальных вещей, абстрагированных от своей функции, образует коллекцию; вещи, ее составляющие, оказываются ‘равноценными в плане обладания, то есть страсти к абстракции’. Причем предлагаемая Бодрийяром трактовка коллекционирования весьма широка и, наряду с традиционным пониманием, включает обладание пространством (‘автомобиль пожирает километры’), временем (часы), разведение домашних животных, любовное обладание, науку как коллекцию фактов и знаний, наконец, ‘человек всегда коллекционирует сам себя’. ‘Коллекция может служить нам моделью обладания’ и выступает ‘как мощный компенсаторный фактор в критические фазы сексуальной революции’. В силу чего вещи получают всю ту нагрузку, которую не удалось реализовать с людьми.
В то же время, по Бодрийяру, каждая вещь имеет две функции, находящихся в обратном соотношении, — быть используемой и быть обладаемой. Первая связана ‘с полем практической тотализации мира субъектом’, вторая — ‘со стремлением к абстрактной самототализации субъекта вне мира’. Серия маргинальных вещей, абстрагированных от своей функции, образует коллекцию; вещи, ее составляющие, оказываются ‘равноценными в плане обладания, то есть страсти к абстракции’. Причем предлагаемая Бодрийяром трактовка коллекционирования весьма широка и, наряду с традиционным пониманием, включает обладание пространством (‘автомобиль пожирает километры’), временем (часы), разведение домашних животных, любовное обладание, науку как коллекцию фактов и знаний, наконец, ‘человек всегда коллекционирует сам себя’. ‘Коллекция может служить нам моделью обладания’ и выступает ‘как мощный компенсаторный фактор в критические фазы сексуальной революции’. В силу чего вещи получают всю ту нагрузку, которую не удалось реализовать с людьми. В пределе коллекция может возникнуть из деструктурируемой вещи, в результате своеобразной перверсии. Иллюстрируя это, Бодрийяр приводит пример из фильма Ж.-Л. Годара ‘Презрение’, где ‘на фоне ‘обнаженной натуры’ разворачивается следующий диалог: — Ты любишь мои ступни? — спрашивает она… — Да, люблю. — Ты любишь мои ноги? — Да. — А мои бедра? — Да, — говорит он опять, — я их люблю. (И так далее снизу вверх, вплоть до волос.) — Значит, ты любишь меня целиком’. Тем не менее, различие коллекции и простого накопительства состоит в ее культурной сложности и принципиальной незавершенности. Только недостающая в коллекции вещь может дать начало социальному дискурсу. Замкнутое самонаправленное существование коллекционера осмысленно лишь постольку, поскольку существует уникальный недостающий предмет. Но даже и в этом случае это существование оказывается неполноценным, т.к. материал коллекции — вещи, ‘слишком конкретен и дисконтинуален, чтобы сложиться в реальную диалектическую структуру’ (за исключением разве что науки или памяти, ср.
В пределе коллекция может возникнуть из деструктурируемой вещи, в результате своеобразной перверсии. Иллюстрируя это, Бодрийяр приводит пример из фильма Ж.-Л. Годара ‘Презрение’, где ‘на фоне ‘обнаженной натуры’ разворачивается следующий диалог: — Ты любишь мои ступни? — спрашивает она… — Да, люблю. — Ты любишь мои ноги? — Да. — А мои бедра? — Да, — говорит он опять, — я их люблю. (И так далее снизу вверх, вплоть до волос.) — Значит, ты любишь меня целиком’. Тем не менее, различие коллекции и простого накопительства состоит в ее культурной сложности и принципиальной незавершенности. Только недостающая в коллекции вещь может дать начало социальному дискурсу. Замкнутое самонаправленное существование коллекционера осмысленно лишь постольку, поскольку существует уникальный недостающий предмет. Но даже и в этом случае это существование оказывается неполноценным, т.к. материал коллекции — вещи, ‘слишком конкретен и дисконтинуален, чтобы сложиться в реальную диалектическую структуру’ (за исключением разве что науки или памяти, ср. DIFFÉRANCE). Следуя схеме Барта, Бодрийяр от рассмотрения вещей в их объективной и субъективной систематизации переходит к анализу их коннотаций. Так, ‘техническая коннотация’ возводится к абсолюту автоматики, которая выступает моделью всей техники. Автоматизация сама по себе вовсе не означает высокой техничности. Напротив, ‘это определенная замкнутость, функциональное излишество, выталкивающее человека в положение безответственного зрителя. Перед нами — мечта о всецело покоренном мире, о формально безупречной технике, обслуживающей инертно-мечтательное человечество’. В то же время автоматика в своей сути антропоморфна, это ‘персонализация на уровне вещи’, сделавшейся ‘совершенно-автономной монадой’. Пределом автоматизации служит ‘гаджет’, ‘штуковина’ — вещь поли-, пара-, гипер- и метафункциональная (например, ‘очистка яиц от скорлупы с помощью солнечной энергии’). Фактически подобные вещи оказываются лишь субъективно функциональными. ‘В автоматике иррационально проецировался образ человеческого сознания, тогда как в этом ‘шизофункциональном’ мире запечатлеваются одни лишь обсессии’.
DIFFÉRANCE). Следуя схеме Барта, Бодрийяр от рассмотрения вещей в их объективной и субъективной систематизации переходит к анализу их коннотаций. Так, ‘техническая коннотация’ возводится к абсолюту автоматики, которая выступает моделью всей техники. Автоматизация сама по себе вовсе не означает высокой техничности. Напротив, ‘это определенная замкнутость, функциональное излишество, выталкивающее человека в положение безответственного зрителя. Перед нами — мечта о всецело покоренном мире, о формально безупречной технике, обслуживающей инертно-мечтательное человечество’. В то же время автоматика в своей сути антропоморфна, это ‘персонализация на уровне вещи’, сделавшейся ‘совершенно-автономной монадой’. Пределом автоматизации служит ‘гаджет’, ‘штуковина’ — вещь поли-, пара-, гипер- и метафункциональная (например, ‘очистка яиц от скорлупы с помощью солнечной энергии’). Фактически подобные вещи оказываются лишь субъективно функциональными. ‘В автоматике иррационально проецировался образ человеческого сознания, тогда как в этом ‘шизофункциональном’ мире запечатлеваются одни лишь обсессии’. Вещь, переступающая свою объективную функцию, всецело включается в строй воображаемого. В этой связи фантастика, по мнению Бодрийяра, ‘изобрела одну-единственную сверхвещь — робота’. Миф о роботе ‘вбирает в себя все пути бессознательного в сфере вещей’, синтезирует ‘абсолютную функциональность’ и ‘абсолютный антропоморфизм’. В мифологии робота сочетаются мотивы раба, неполноценной копии человека (робот лишен пола), бунта и саморазрушения. Именно в этом заключается притягательность соблазна мифологии — недостигаемый предел человеческого. Так и поломка вещи всегда переживается человеком двойственно: ‘она подрывает надежность нашего положения, но и одновременно и материализует наш постоянный спор с самим собой, который также требует к себе удовлетворения’. Вещь, которая не ломается, ‘вызывает страх’. Поломка вещи (в пределе — ее смерть), означая ее фатальность, сексуальность и реальность, питает психологическую систему проекций, для которой важен зазор между функциональностью и дисфункциональностью вещи, ее ‘фантазматическая, аллегорическая, подсознательная ‘усвояемость’.
Вещь, переступающая свою объективную функцию, всецело включается в строй воображаемого. В этой связи фантастика, по мнению Бодрийяра, ‘изобрела одну-единственную сверхвещь — робота’. Миф о роботе ‘вбирает в себя все пути бессознательного в сфере вещей’, синтезирует ‘абсолютную функциональность’ и ‘абсолютный антропоморфизм’. В мифологии робота сочетаются мотивы раба, неполноценной копии человека (робот лишен пола), бунта и саморазрушения. Именно в этом заключается притягательность соблазна мифологии — недостигаемый предел человеческого. Так и поломка вещи всегда переживается человеком двойственно: ‘она подрывает надежность нашего положения, но и одновременно и материализует наш постоянный спор с самим собой, который также требует к себе удовлетворения’. Вещь, которая не ломается, ‘вызывает страх’. Поломка вещи (в пределе — ее смерть), означая ее фатальность, сексуальность и реальность, питает психологическую систему проекций, для которой важен зазор между функциональностью и дисфункциональностью вещи, ее ‘фантазматическая, аллегорическая, подсознательная ‘усвояемость’. Другой тип коннотаций возникает в социоидеологической системе вещей. Статус современной вещи определяется оппозицией модели и серии. Если в традиционных обществах модель не порождала серию, а свой статус вещь получала от общественного строя (т.е. трансцендентность модели совпадала со ‘стильностью’), то в современности серийная вещь не является ирреальной по отношению к идеальной модели, а модель больше не замыкается в рамках привилегированного меньшинства. ‘Психологически это чрезвычайно важно, поскольку в силу этого пользование серийными вещами всегда имплицитно или эксплицитно сопровождается учреждением модели, несмотря на фрустрацию и полную материальную невозможность такую модель заполучить’. ‘Психосоциологическая динамика’ возводит серию в модель и постоянно тиражирует модель в серию, аннигилируя и ‘чистую модель’, и ‘чистую серию’. Следовательно, динамика модели и серии функционирует на неком вторичном уровне, а именно уровне маргинальных различий, составляющих систему культуры. Сегодня, полагает Бодрийяр, ни одна вещь не предлагается для использования в нулевой степени.
Другой тип коннотаций возникает в социоидеологической системе вещей. Статус современной вещи определяется оппозицией модели и серии. Если в традиционных обществах модель не порождала серию, а свой статус вещь получала от общественного строя (т.е. трансцендентность модели совпадала со ‘стильностью’), то в современности серийная вещь не является ирреальной по отношению к идеальной модели, а модель больше не замыкается в рамках привилегированного меньшинства. ‘Психологически это чрезвычайно важно, поскольку в силу этого пользование серийными вещами всегда имплицитно или эксплицитно сопровождается учреждением модели, несмотря на фрустрацию и полную материальную невозможность такую модель заполучить’. ‘Психосоциологическая динамика’ возводит серию в модель и постоянно тиражирует модель в серию, аннигилируя и ‘чистую модель’, и ‘чистую серию’. Следовательно, динамика модели и серии функционирует на неком вторичном уровне, а именно уровне маргинальных различий, составляющих систему культуры. Сегодня, полагает Бодрийяр, ни одна вещь не предлагается для использования в нулевой степени. Различия и нюансы между вещами столь многочисленны и одновременно незначительны, что покупатель, делая выбор, ‘личностно вовлекается в нечто трансцендентное вещи’, персонализируя ее. Функция персонализации, по Бодрийяру, ‘фактор не просто добавочный, но и паразитарный’. Маргинальные различия, образуя моду, ‘служат двигателем серии и питают собой механизм интеграции’. Но механизм этот абстрактен, в конечном итоге модель трансформируется в идею модели. Но наряду с совершенствованием ‘идеальной модели’, ‘модель реальная’ и следующая из нее серия приходят в упадок. Вещь для постоянного обновления системы моды и системы потребления изготавливается искусственно непрочной и недолговечной. Серия не должна ускользать от смерти. Псевдопротиворечие между краткосрочной эфимерностью и долговечной надежностью позволяет переживать модель как серию, быть модным, со-временным; но также оно наделяет вещь массой экономических коннотаций. В частности, ‘главные’ вещи предстают еще и под знаком кредита — ‘премии от всего строя производства’, составляющей ‘права и обязанности гражданина потребителя’.
Различия и нюансы между вещами столь многочисленны и одновременно незначительны, что покупатель, делая выбор, ‘личностно вовлекается в нечто трансцендентное вещи’, персонализируя ее. Функция персонализации, по Бодрийяру, ‘фактор не просто добавочный, но и паразитарный’. Маргинальные различия, образуя моду, ‘служат двигателем серии и питают собой механизм интеграции’. Но механизм этот абстрактен, в конечном итоге модель трансформируется в идею модели. Но наряду с совершенствованием ‘идеальной модели’, ‘модель реальная’ и следующая из нее серия приходят в упадок. Вещь для постоянного обновления системы моды и системы потребления изготавливается искусственно непрочной и недолговечной. Серия не должна ускользать от смерти. Псевдопротиворечие между краткосрочной эфимерностью и долговечной надежностью позволяет переживать модель как серию, быть модным, со-временным; но также оно наделяет вещь массой экономических коннотаций. В частности, ‘главные’ вещи предстают еще и под знаком кредита — ‘премии от всего строя производства’, составляющей ‘права и обязанности гражданина потребителя’. Если ‘серия дает нам возможность опережающего пользования моделью’, то кредит — ‘опережающего пользования вещами во времени’. В результате этого ‘магического’ процесса человек оказывается отсрочен от своих вещей: ранее он был вынужден экономить, чтобы потом, купив вещь, рассчитаться со своим прошлым и с надеждой смотреть в будущее; сегодня наблюдается феномен ‘предшествующего будущего’, когда потребление опережает производство. ‘Новая этика потребления’ означает и новое принуждение, по аналогии с феодальным; однако ‘наша система основана на своеобразном сообщничестве’ продавца-покупателя — ‘обязанность покупать, чтобы общество продолжало производить, а сам он мог работать дальше, дабы было чем заплатить за уже купленное’. Фактически вещи предназначены только для этого — чтобы их производили и покупали. Человек же, получая от общества кредит формальной свободы, сам кредитует общество, отчуждая от себя собственное будущее. Наконец, вся социологическая система вещей и потребления, а в конечном итоге вся система вещей (такие явления, как ‘персонализация’, метастатическая дифференциация и разрастание функций, различий и самих вещей, ‘деградация технических структур в пользу структур производства и потребления’, поломки и вторичные функции) получает в рекламе окончательную автономию и завершенность.
Если ‘серия дает нам возможность опережающего пользования моделью’, то кредит — ‘опережающего пользования вещами во времени’. В результате этого ‘магического’ процесса человек оказывается отсрочен от своих вещей: ранее он был вынужден экономить, чтобы потом, купив вещь, рассчитаться со своим прошлым и с надеждой смотреть в будущее; сегодня наблюдается феномен ‘предшествующего будущего’, когда потребление опережает производство. ‘Новая этика потребления’ означает и новое принуждение, по аналогии с феодальным; однако ‘наша система основана на своеобразном сообщничестве’ продавца-покупателя — ‘обязанность покупать, чтобы общество продолжало производить, а сам он мог работать дальше, дабы было чем заплатить за уже купленное’. Фактически вещи предназначены только для этого — чтобы их производили и покупали. Человек же, получая от общества кредит формальной свободы, сам кредитует общество, отчуждая от себя собственное будущее. Наконец, вся социологическая система вещей и потребления, а в конечном итоге вся система вещей (такие явления, как ‘персонализация’, метастатическая дифференциация и разрастание функций, различий и самих вещей, ‘деградация технических структур в пользу структур производства и потребления’, поломки и вторичные функции) получает в рекламе окончательную автономию и завершенность. Реклама как чистая коннотация радикально двойственна: это и дискурс о вещах, и дискурс-вещь, служащий предметом потребления в качестве предмета культуры. Первичная, ‘объективная’ функция рекламы, ставящая целью внушение покупки определенной марки товара, в рекламном дискурсе нейтрализуется: ‘рекламный дискурс разубеждает не меньше, чем убеждает’. Однако, ‘сопротивляясь все лучше и лучше рекламному императиву, мы зато делаемся все более чувствительнее к рекламному индикативу’. Императив и индикатив в рекламе воспроизводят мифологическую структуру алиби: ‘под прикрытием его /рекламируемого товара — H.K.I наглядной очевидности осуществляется невидимая операция интеграции’. Реклама действует согласно ‘логике Деда Мороза’, т.е. логики вовлеченности в легенду — ‘мы в нее не верим, и однако она нам дорога’. Тем самым, реклама способствует инфантильной регрессии к социальному консенсусу и ‘непроизвольному усвоению смыслов социальной среды’; тем более, что она всегда предоставляется в дар и ‘старается восстановить инфантильную неразличимость между предметом и его желанием, отбросить потребителя к той стадии, на которой ребенок еще не отличает мать от ее даров’.
Реклама как чистая коннотация радикально двойственна: это и дискурс о вещах, и дискурс-вещь, служащий предметом потребления в качестве предмета культуры. Первичная, ‘объективная’ функция рекламы, ставящая целью внушение покупки определенной марки товара, в рекламном дискурсе нейтрализуется: ‘рекламный дискурс разубеждает не меньше, чем убеждает’. Однако, ‘сопротивляясь все лучше и лучше рекламному императиву, мы зато делаемся все более чувствительнее к рекламному индикативу’. Императив и индикатив в рекламе воспроизводят мифологическую структуру алиби: ‘под прикрытием его /рекламируемого товара — H.K.I наглядной очевидности осуществляется невидимая операция интеграции’. Реклама действует согласно ‘логике Деда Мороза’, т.е. логики вовлеченности в легенду — ‘мы в нее не верим, и однако она нам дорога’. Тем самым, реклама способствует инфантильной регрессии к социальному консенсусу и ‘непроизвольному усвоению смыслов социальной среды’; тем более, что она всегда предоставляется в дар и ‘старается восстановить инфантильную неразличимость между предметом и его желанием, отбросить потребителя к той стадии, на которой ребенок еще не отличает мать от ее даров’. В то же время реклама подавляет, изображая мир, приспособленный к потребностям индивида; поэтому функцией, по сути пустого, рекламного образа является ‘показывать и не даваться’. К тому же реклама как ‘самый демократический товар’ упрощена до предела, она не образует языка, но лишь универсальный языковой код: образ отсылает только к образу, вовлекая в оборот и реальную жизнь. Так, понятие социального статуса все более упрощается, превращаясь в ‘стэндинг’ — социальную характеристику, интегрирующую рекламные опознавательные знаки (например, чай как ‘знак хорошего вкуса’, часы — символ достатка и т.д.). Подобная виртуализация действительности является, по Бодрийяру, следствием эволюции потребления, которое из первоначального удовлетворения потребностей стало ‘активным модусом отношения’ не только к вещи, но и к коллективу и всему миру, т.е. фундаментом нашей культуры. Потребление есть ‘деятельность систематического оперирования знаками’, ‘тотальная идеалистическая практика’. Следовательно, вещь, чтобы быть потребленной, должна стать знаком, точнее, вещи более не потребляются, а только идеи вещей.
В то же время реклама подавляет, изображая мир, приспособленный к потребностям индивида; поэтому функцией, по сути пустого, рекламного образа является ‘показывать и не даваться’. К тому же реклама как ‘самый демократический товар’ упрощена до предела, она не образует языка, но лишь универсальный языковой код: образ отсылает только к образу, вовлекая в оборот и реальную жизнь. Так, понятие социального статуса все более упрощается, превращаясь в ‘стэндинг’ — социальную характеристику, интегрирующую рекламные опознавательные знаки (например, чай как ‘знак хорошего вкуса’, часы — символ достатка и т.д.). Подобная виртуализация действительности является, по Бодрийяру, следствием эволюции потребления, которое из первоначального удовлетворения потребностей стало ‘активным модусом отношения’ не только к вещи, но и к коллективу и всему миру, т.е. фундаментом нашей культуры. Потребление есть ‘деятельность систематического оперирования знаками’, ‘тотальная идеалистическая практика’. Следовательно, вещь, чтобы быть потребленной, должна стать знаком, точнее, вещи более не потребляются, а только идеи вещей. В этом плане весьма показательна этимология: фр. глагол se consommer ‘потребляться’ — значит ‘осуществляться’, но также и ‘уничтожаться’. Тот факт, что Революция стала в обоих смыслах потребляться как Идея Революции, побудил Бодрийяра дополнить Марксов анализ капитализма ‘политической экономией знака’. Помимо этого дальнейшее развитие получили уже заложенные в ‘Системе вещей’ идеи симулятивной реальности, утопии символического обмена и смерти, а также метафоры ‘соблазна’, ‘нулевой степени’, ‘зеркала’, ‘короткого замыкания’ и ‘метастатического размножения’. Следуя социально-критической установке Барта ‘мифологизировать мифологию’, Бодрийяр по сути противостоит системе и, за счет отсутствия строгого определения ‘вещи’ и оперирования ‘ею’ в самых различных контекстах, мифологизирует само основание культуры потребления. Разумеется, некоторые высказанные Бодрийяром в 1968 мысли сегодня могут показаться несколько наивными, как может броситься в глаза и непроясненность и произвольность терминологии, однако уже тогда ему удалось описать маргинальные явления, гораздо позже ставшие очевидными и актуальными.
В этом плане весьма показательна этимология: фр. глагол se consommer ‘потребляться’ — значит ‘осуществляться’, но также и ‘уничтожаться’. Тот факт, что Революция стала в обоих смыслах потребляться как Идея Революции, побудил Бодрийяра дополнить Марксов анализ капитализма ‘политической экономией знака’. Помимо этого дальнейшее развитие получили уже заложенные в ‘Системе вещей’ идеи симулятивной реальности, утопии символического обмена и смерти, а также метафоры ‘соблазна’, ‘нулевой степени’, ‘зеркала’, ‘короткого замыкания’ и ‘метастатического размножения’. Следуя социально-критической установке Барта ‘мифологизировать мифологию’, Бодрийяр по сути противостоит системе и, за счет отсутствия строгого определения ‘вещи’ и оперирования ‘ею’ в самых различных контекстах, мифологизирует само основание культуры потребления. Разумеется, некоторые высказанные Бодрийяром в 1968 мысли сегодня могут показаться несколько наивными, как может броситься в глаза и непроясненность и произвольность терминологии, однако уже тогда ему удалось описать маргинальные явления, гораздо позже ставшие очевидными и актуальными. В частности, тот факт, что в системе вся энергия тратится на то, чтобы ее вырабатывать, и что проект модерна не исчез — ‘просто он довольствуется знаковой реализацией через вещь-объект. То есть объект потребления — это как раз и есть то самое, в чем ‘смиряется’ ‘проект’.
В частности, тот факт, что в системе вся энергия тратится на то, чтобы ее вырабатывать, и что проект модерна не исчез — ‘просто он довольствуется знаковой реализацией через вещь-объект. То есть объект потребления — это как раз и есть то самое, в чем ‘смиряется’ ‘проект’.
История Философии: Энциклопедия. — Минск: Книжный Дом. А. А. Грицанов, Т. Г. Румянцева, М. А. Можейко. 2002.
Поможем написать реферат
- СИМУЛЯЦИЯ
- СИСТЕМА ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОГО ИДЕАЛИЗМА
Полезное
Системы вещей — ОНЛАЙН-БИБЛИОТЕКА Сторожевой башни
Фраза «система вещей» выражает смысл греческого термина айо́н в более чем 30 случаях его появления в Христианских Греческих Писаниях.
О значении аион́, Р. К. Тренч утверждает: «Подобно [ космос, мир] оно [ аион́ ] имеет первичное и физическое, а затем, сверхиндуцированное на него, вторичный и этический смысл.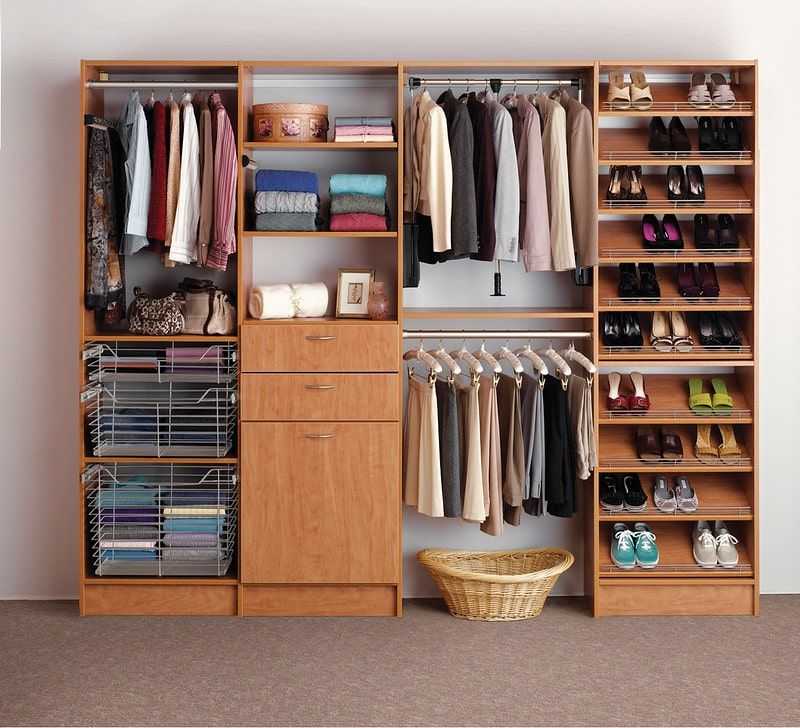 В своем первичном [смысле] оно означает время, короткое или долгое, в его непрерывной длительности; . . . но по существу время как условие, при котором существуют все сотворенные вещи, и мера их существования. . . Обозначая таким образом время, оно в настоящее время начинает обозначать все, что существует в мире в условиях времени; . . . а затем, с точки зрения этики, ход и течение дел в этом мире». В подтверждение этого последнего смысла он цитирует немецкого ученого К. Л. В. Гримма, который дал определение: «Совокупность того, что проявляется во внешнем течении времени» (9).0003 Synonyms of the New Testament, London, 1961, pp. 202, 203.
В своем первичном [смысле] оно означает время, короткое или долгое, в его непрерывной длительности; . . . но по существу время как условие, при котором существуют все сотворенные вещи, и мера их существования. . . Обозначая таким образом время, оно в настоящее время начинает обозначать все, что существует в мире в условиях времени; . . . а затем, с точки зрения этики, ход и течение дел в этом мире». В подтверждение этого последнего смысла он цитирует немецкого ученого К. Л. В. Гримма, который дал определение: «Совокупность того, что проявляется во внешнем течении времени» (9).0003 Synonyms of the New Testament, London, 1961, pp. 202, 203.
Основной смысл айо́н, , следовательно, — «возраст» или «период существования», и в Писании он часто обозначает длительный промежуток времени (Деян. 3:21; 15:18), включая бесконечный период времени, то есть навсегда, вечность. (Мк 3:29; 11:14; Евр 13:8). Об этих чувствах см. ВОЗРАСТ. Однако здесь мы рассматриваем смысл термина, рассматриваемого в последней части определения, приведенного в предыдущем абзаце.
Чтобы лучше понять этот смысл, мы можем вспомнить некоторые употребления терминов «возраст», «эра» и «эпоха» в английском языке. Мы можем говорить об эпохе, эре или эпохе в смысле периода времени в истории, характеризующегося своеобразным развитием или ходом событий или отмеченного какой-либо выдающейся фигурой или типичной чертой или чертами. Мы можем говорить об «эпохе географических открытий», имея в виду времена Колумба, Магеллана, Кука и других морских исследователей, или о «феодальной эпохе», «тёмных веках», «викторианской эпохе» или, более недавно наступила «космическая эра». В каждом случае выдающимся является не столько сам период времени, сколько отличительная или характерная черта.0003 функция или функция этого периода времени. Эти особенности обеспечивают определяющие факторы или линии, отмечающие начало, продолжительность и конец периода. Без них период был бы просто временем, а не отдельной эпохой, эрой или эпохой.
Таким образом, в греко-английском словаре Лидделла и Скотта приводится одно из определений айо́н: «пространство времени четко определенное и обозначенное, эпоха, эпоха». (Пересмотрено Х. Джонсом, Оксфорд, 1968 г., стр. 45) И В Толковом словаре слов Ветхого и Нового Завета Вайна (1981, том 1, стр. 41) говорится: «эпоха, эра… . . [это] означает период неопределенной продолжительности или время, рассматриваемое в связи с тем, что происходит в этот период».
(Пересмотрено Х. Джонсом, Оксфорд, 1968 г., стр. 45) И В Толковом словаре слов Ветхого и Нового Завета Вайна (1981, том 1, стр. 41) говорится: «эпоха, эра… . . [это] означает период неопределенной продолжительности или время, рассматриваемое в связи с тем, что происходит в этот период».
По этой причине, когда отличительные черты периода, а не само время, являются более заметной мыслью в конкретном тексте, айо́н можно правильно перевести как «система вещей» или «состояние». Целесообразность этого показана в Галатам 1:4, где апостол пишет: «Он отдал Себя за наши грехи, чтобы избавить нас от нынешней нечестивой системы вещей [форма айо́н ] по воле нашего Бога и Отца». Во многих переводах здесь аион́ переводится как «возраст», но очевидно, что искупительная жертва Христа не послужила избавлению христиан от века или временного промежутка, поскольку они продолжали жить в том же веке, что и остальное человечество. Однако они были избавлены от состояния или системы вещей, существовавшей в тот период времени и характеризующей ее. (Ср. Тит 2:11—14.)
(Ср. Тит 2:11—14.)
Апостол писал христианам в Риме: «Перестаньте устраиваться по этой системе вещей, но преобразитесь, переделав свой разум». (Рим. 12:2). Не сам период времени устанавливал моду, образец или модель для людей того времени, но стандарты, обычаи, нравы, обычаи, пути, мировоззрение, стили и другие черты, характеризующие тот период времени. В Ефесянам 2:1, 2 апостол говорит о тех, кому он пишет, как об «мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда ходили по системе вещей [«по пути», ДБ; «следуя курсу», RS ] этого мира». Комментируя этот текст, The Expositor’s Greek Testament (Том III, стр. 283) показывает, что время не является единственным или главным фактором, выраженным здесь через айо́н. В поддержку перевода аион́ словом «курс» говорится: «Это слово передает три идеи: тенор, развитие, и ограниченное продолжение. Этот путь злого мира сам по себе является злом, и жить в соответствии с ним — значит жить в проступках и грехах» (Под редакцией В. Николла, 19).67.
Николла, 19).67.
Эпохи, состояния, системы вещей. Существуют различные системы вещей или преобладающие положения дел, которые существовали или будут существовать. Те, что сотворены Богом через Его Сына, — это, очевидно, праведные системы вещей.
Например, посредством завета Закона Бог ввел то, что некоторые могли бы назвать израильской или еврейской эпохой. Однако и здесь то, что отличало этот период истории (в отношении отношений Бога с человечеством), было положением дел и характерными чертами, вызванными заветом Закона. Эти особенности включали священство; система жертвоприношений и диетических предписаний, а также богослужения в скиниях и храмах с праздниками и субботами, которые образовывали пророческие прообразы и тени; а также национальная система, в которой участвовал человеческий король. Однако, когда Бог предсказал новый завет (Иер. 31:31-34), ветхий завет стал в некотором смысле устаревшим, хотя Бог позволил ему продолжать действовать в течение столетий после этого.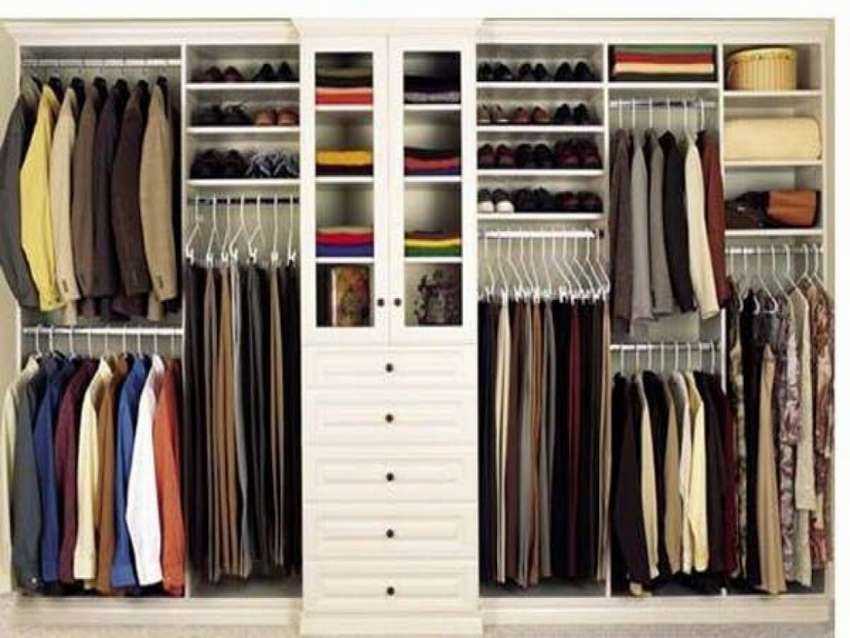 (Евр. 8:13). Затем, в 33 году н. э., Бог положил конец завету Закона, фактически пригвоздив его к столбу мучений Своего Сына (Кол 2:13—17).
(Евр. 8:13). Затем, в 33 году н. э., Бог положил конец завету Закона, фактически пригвоздив его к столбу мучений Своего Сына (Кол 2:13—17).
Очевидно, по этой причине в Евреям 9:26 говорится о Христе, что Он «явил Себя раз и навсегда при завершении системы вещей, чтобы удалить грех через жертву Себя». Тем не менее, отличительные черты той эпохи или эпохи не пришли к своему полному концу до 70 г. н. э., когда Иерусалим и его храм были разрушены, а еврейский народ рассеялся. Эта катастрофа — хотя три года спустя, или в 73 г. н. э., последняя иудейская твердыня (Масада) была захвачена римлянами, — навсегда положила конец иудейскому священству, жертвоприношениям и поклонению в храмах, как это предписано Законом; это также положило конец еврейскому национальному устройству, установленному Богом. Несомненно, поэтому апостол через много лет после смерти Христа, но до опустошения Иерусалима римлянами, мог рассказать некоторую прошлую историю Израиля и сказать: нам , на котором наступил конец систем вещей». — 1Кр 10:11; сравните Мф 24:3; 1Пт 4:7.
— 1Кр 10:11; сравните Мф 24:3; 1Пт 4:7.
Посредством своей искупительной жертвы и нового завета, который она подтвердила, Иисус Христос был использован Богом, чтобы ввести другую систему вещей, в первую очередь касающуюся собрания помазанных христиан. (Евр. 8:7-13) Это ознаменовало начало новой эпохи, характеризуемой реалиями, предвосхищенными заветом Закона. Оно принесло служение примирения, усиленное действие Божьего святого духа, поклонение через духовный храм с духовными жертвами (1Пет. 2:5) вместо буквального храма и жертвоприношений животных; и это принесло откровения о Божьем замысле и отношениях с Богом, которые означали новый образ жизни для тех, кто в новом завете. Все это были черты, характеризующие систему вещей, введенную Христом.
Неправедный век, или Система вещей. Когда Павел писал Тимофею о тех, кто был «богат настоящей системой вещей», несомненно, он имел в виду не еврейскую систему вещей или эпоху, ибо в своем служении Тимофей имел дело не только с христианами-иудеями, но и со многими язычниками. христиане, и богатство любого из этих языческих христиан вряд ли было бы связано с еврейской системой вещей. (1Тм 6:17). Точно так же, говоря о Димасе как о человеке, который оставил его, «потому что он любил нынешнюю систему вещей», Павел, очевидно, имел в виду не то, что Димас любил иудейскую систему вещей, а, скорее, то, что он любил преобладающее положение дел в мире в целом и мирской образ жизни (2Тм 4:10; сравните Мф 13:22.
христиане, и богатство любого из этих языческих христиан вряд ли было бы связано с еврейской системой вещей. (1Тм 6:17). Точно так же, говоря о Димасе как о человеке, который оставил его, «потому что он любил нынешнюю систему вещей», Павел, очевидно, имел в виду не то, что Димас любил иудейскую систему вещей, а, скорее, то, что он любил преобладающее положение дел в мире в целом и мирской образ жизни (2Тм 4:10; сравните Мф 13:22.
Мирской айо́н, или система вещей, существовал еще до введения завета Закона. Он продолжался одновременно с аион́ этого завета и сохранялся после окончания аион́, или положения дел, которое установил завет Закона. Мирской айо́н , очевидно, начался через некоторое время после Потопа, когда развился неправедный образ жизни, характеризующийся грехом и бунтом против Бога и Его воли. Следовательно, Павел мог также говорить о «боге этой системы вещей», ослепляющем умы неверующих, что явно указывает на Сатану Дьявола. (2Кр 4:4; ср. Ин 12:31). Прежде всего, власть и влияние сатаны сформировали мирские айо́н и придать ему отличительные черты и дух. (Сравни Эф 2:1, 2.) Комментируя Римлянам 12:2, , в Греческом Завете толкования (Том II, стр. 688) говорится: «Даже кажущееся или поверхностное соответствие системе, контролируемой таким духом, значительно более фактическое приспособление к его обычаям было бы фатальным для христианской жизни». Такой мирской аион́ должен был продолжаться еще долго после дней апостолов.
(2Кр 4:4; ср. Ин 12:31). Прежде всего, власть и влияние сатаны сформировали мирские айо́н и придать ему отличительные черты и дух. (Сравни Эф 2:1, 2.) Комментируя Римлянам 12:2, , в Греческом Завете толкования (Том II, стр. 688) говорится: «Даже кажущееся или поверхностное соответствие системе, контролируемой таким духом, значительно более фактическое приспособление к его обычаям было бы фатальным для христианской жизни». Такой мирской аион́ должен был продолжаться еще долго после дней апостолов.
Например, в Евангелии от Матфея 13:37-43, объясняя притчу, Иисус сказал, что «поле есть мир [ космос ]; . . . Урожай — это завершение системы вещей [форма а·о́н ]. . . Поэтому, как сорняки собирают и сжигают в огне, так будет и в завершении системы вещей». В некоторых переводах, таких как Версия короля Иакова, , слово «мир» используется для перевода как космос , так и аион́ в этих стихах. Однако ясно, что фермер на иллюстрации сжигает не «поле», представляющее «мир», а только «сорняки». Следовательно, то, что подходит к концу или «завершается», не есть «мир» (9).0003 космос ), а «система вещей» ( аион́ ). В переводе Джорджа Кэмпбелла эти части передаются так: «Поле — это мир. . . урожай является завершением этого состояния. . . так будет и в конце этого состояния» ( Четыре Евангелия, Лондон, 1834 г.).
Следовательно, то, что подходит к концу или «завершается», не есть «мир» (9).0003 космос ), а «система вещей» ( аион́ ). В переводе Джорджа Кэмпбелла эти части передаются так: «Поле — это мир. . . урожай является завершением этого состояния. . . так будет и в конце этого состояния» ( Четыре Евангелия, Лондон, 1834 г.).
Иисус показал, что пшеница представляет собой истинных помазанных христиан, настоящих учеников, тогда как сорняки представляют ложных христиан. Таким образом, завершение системы вещей, изображенное здесь как время жатвы, в данном случае не будет относиться ни к завершению еврейской системы вещей, ни к завершению «состояния», в котором «пшеница» и «сорняки срослись без помех, но должны относиться к концу той же самой системы вещей, о которой позже говорил апостол, то есть к «нынешней системе вещей», отмеченной сатанинским господством. (1Тим. 6:17). Так же и с дополнительной иллюстрацией, данной Иисусом относительно невода и отделения рыбы, изображающей, «как будет в заключении системы вещей: выйдут ангелы и отделят нечестивый из числа праведников». (Мф 13:47-50) Эти выражения Иисуса, несомненно, были в умах учеников, когда некоторое время спустя они задали вопрос о «признаке Его присутствия и завершения системы вещей» (Мф 24:3). ) Обещание Иисуса быть со своими учениками в их наставнической работе вплоть до завершения системы вещей также должно относиться к завершению положения дел в результате господства сатаны (Мф 28:19), 20.
(Мф 13:47-50) Эти выражения Иисуса, несомненно, были в умах учеников, когда некоторое время спустя они задали вопрос о «признаке Его присутствия и завершения системы вещей» (Мф 24:3). ) Обещание Иисуса быть со своими учениками в их наставнической работе вплоть до завершения системы вещей также должно относиться к завершению положения дел в результате господства сатаны (Мф 28:19), 20.
Другие примеры текстов, в которых аион́ относится к такой нечестивой системе вещей, включают Луки 16:8; 1 Коринфянам 1:20; 2:6, 8; 3:18; Ефесянам 1:21.
Грядущая Система Вещей. В Матфея 12:32 цитируется высказывание Иисуса о том, что всякий, говорящий против святого духа, не будет прощен ни в этой «системе вещей, ни в будущей». Это может быть прочитано как ссылка на еврейскую систему вещей и на будущую систему вещей, которую Христос принесет посредством нового завета. Однако свидетельства указывают на то, что вместо этого он ссылался на нынешнюю нечестивую систему вещей и на систему вещей, которая будет введена по завершении этой нечестивой системы вещей. О том же будущем состоянии он говорил, обещая, что те, кто покинет дом и семью ради Царства Божия, получат «во много раз больше в этот период времени [форма 9].0003 каиро́с, означает «назначенное время»] и в грядущей системе вещей [форма айо́н ] вечная жизнь». (Лк 18:29, 30). Эта грядущая система вещей также будет обозначать период времени, в течение которого люди получат воскресение с возможностью быть причисленными к детям Бога. (Лк 20:34, 35). Форма множественного числа аион́ используется в Ефесянам 2:7 для обозначения «грядущих систем вещей», в которых христианам-помазанникам предстоит пережить необычайно богатое проявление незаслуженной доброты Бога. к ним «в союзе со Христом Иисусом». (Сравни Эф 1:18—23; Евр 6:4, 5.) Это указывает на то, что будут существовать системы вещей или состояний 9.0003 внутри всеобщей «грядущей системы вещей», точно так же, как система вещей в соответствии с заветом Закона включала в себя взаимосвязанные, одновременные системы, как уже было показано.
О том же будущем состоянии он говорил, обещая, что те, кто покинет дом и семью ради Царства Божия, получат «во много раз больше в этот период времени [форма 9].0003 каиро́с, означает «назначенное время»] и в грядущей системе вещей [форма айо́н ] вечная жизнь». (Лк 18:29, 30). Эта грядущая система вещей также будет обозначать период времени, в течение которого люди получат воскресение с возможностью быть причисленными к детям Бога. (Лк 20:34, 35). Форма множественного числа аион́ используется в Ефесянам 2:7 для обозначения «грядущих систем вещей», в которых христианам-помазанникам предстоит пережить необычайно богатое проявление незаслуженной доброты Бога. к ним «в союзе со Христом Иисусом». (Сравни Эф 1:18—23; Евр 6:4, 5.) Это указывает на то, что будут существовать системы вещей или состояний 9.0003 внутри всеобщей «грядущей системы вещей», точно так же, как система вещей в соответствии с заветом Закона включала в себя взаимосвязанные, одновременные системы, как уже было показано.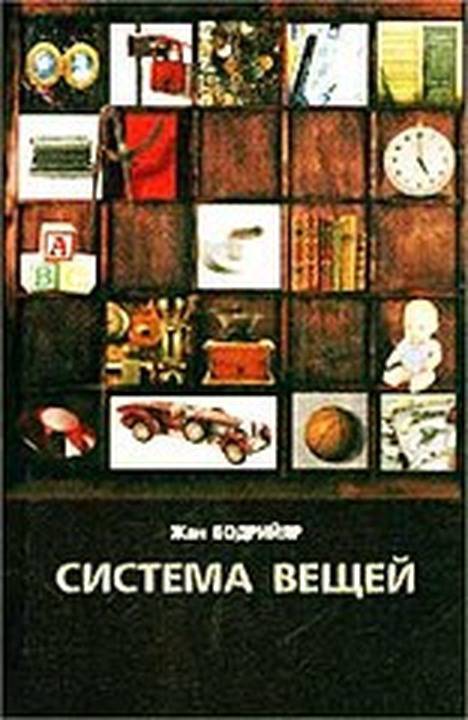
Бог «приводит в порядок» «системы вещей». В Евреям 11:3 говорится: «Верою мы постигаем, что системы вещей [множественное число от айо́н ] устроены словом Божьим, так что видимое произошло из невидимого. ». Многие считают текст Евреям 1:2 параллельным в использовании формы множественного числа от 9.0003 айон́; говорится, что Иегова говорил через своего Сына, Иисуса Христа, «которого он поставил наследником всего и через которого создал системы вещей». Особое значение греческого слова аион́ в этих двух стихах понимается по-разному.
Один из способов понять их — рассматривать греческий термин как относящийся к отличительным или характерным чертам периода времени. В 11-й главе Послания к Евреям вдохновленный автор обсуждает, как верой «были засвидетельствованы люди древних времен». (Ст. 2) Затем, в своих последующих словах, он приводит примеры верных людей в допотопную эпоху, в патриархальную эпоху и в период заветных отношений Израиля с Богом. В течение всех этих отдельных периодов и с помощью событий, вызванных, сформированных и совершенных в них, Бог осуществлял Свою цель устранить мятеж и обеспечить путь к примирению с Собой со стороны достойных людей посредством последовательных «систем». вещей.» Таким образом, те люди древности должны были иметь и имели веру в то, что невидимый Бог действительно направляет дела упорядоченным образом. Они верили, что он был невидимым Создателем различных систем вещей и что цель, к которой они стремились, «исполнение обетования», была абсолютной уверенностью в установленном Богом времени. С верой они ожидали дальнейшего осуществления замысла Бога, который включал в себя систему вещей, созданную новым заветом, основанным на жертве Иисуса (Евр 11:39)., 40; 12:1, 18-28.
В течение всех этих отдельных периодов и с помощью событий, вызванных, сформированных и совершенных в них, Бог осуществлял Свою цель устранить мятеж и обеспечить путь к примирению с Собой со стороны достойных людей посредством последовательных «систем». вещей.» Таким образом, те люди древности должны были иметь и имели веру в то, что невидимый Бог действительно направляет дела упорядоченным образом. Они верили, что он был невидимым Создателем различных систем вещей и что цель, к которой они стремились, «исполнение обетования», была абсолютной уверенностью в установленном Богом времени. С верой они ожидали дальнейшего осуществления замысла Бога, который включал в себя систему вещей, созданную новым заветом, основанным на жертве Иисуса (Евр 11:39)., 40; 12:1, 18-28.
Другой способ понять использование аион́ в Евреям 1:2 и 11:3 состоит в том, что это эквивалент греческого термина космос в смысле мира или вселенной, совокупности сотворенных вещей. включая солнце, луну, звезды и саму землю. Эта точка зрения, очевидно, подтверждается утверждением в Евреям 11:3, что «видимое произошло из невидимого». Этот стих также можно рассматривать как отсылку к повествованию о сотворении из Бытия, которое может логически предшествовать ссылкам Павла на Авеля (ст. 4), Еноха (ст. 5, 6) и Ноя (ст. 7). Таким образом, Павел, возможно, расширял свое определение веры, ссылаясь на существование вселенной, состоящей из солнца, луны и звезд, как на явное доказательство существования Творца. (Сравни Рим 1:20.)
включая солнце, луну, звезды и саму землю. Эта точка зрения, очевидно, подтверждается утверждением в Евреям 11:3, что «видимое произошло из невидимого». Этот стих также можно рассматривать как отсылку к повествованию о сотворении из Бытия, которое может логически предшествовать ссылкам Павла на Авеля (ст. 4), Еноха (ст. 5, 6) и Ноя (ст. 7). Таким образом, Павел, возможно, расширял свое определение веры, ссылаясь на существование вселенной, состоящей из солнца, луны и звезд, как на явное доказательство существования Творца. (Сравни Рим 1:20.)
В Еврейских Писаниях. Еврейский термин хе́лед аналогичен по значению аион́, в некоторых текстах обозначает «продолжительность жизни» (Иов 11:17; Пс 39:5; 89:47), но в других случаях означает временного отрезка оказываются главным обозначаемым, что позволяет переводить его как «систему вещей». (Пс 17:13, 14; 49:1). В некоторых переводах используется слово «мир» для передачи этого термина в этих последних текстах, но эта передача более или менее игнорирует подразумеваемый смысл, а именно смысл продолжающегося времени.
Блог Fugue на Tumblr
Теперь, когда меня нет дома и я не постоянно погружаюсь в идеологическую обработку сторожевых башен, многие их традиционные фразы начинают казаться мне чуждыми. Одна фраза, которую мы использовали все время, была «эта система вещей». Для любого полностью обученного свидетеля Иеговы эта фраза является неотъемлемой частью словаря свидетеля. У свидетеля язык свертывается вполне естественно. Мы бы сказали что-то вроде: «Злая система вещей Сатаны выходит из строя». «Я не хочу иметь детей в этой системе вещей». «Сколько еще может продолжаться эта система вещей?» И, конечно, «эта система вещей» будет заменена «новой системой вещей» или просто «новой системой». Вы когда-нибудь останавливались, чтобы подумать о том, как странно это звучит? Мне пришлось заглянуть на компакт-диск, чтобы узнать, где они его взяли. В книге прозрений есть запись «Системы вещей», которая начинается с: 9.0005
Проницательность Том. 2 писал: Фраза «система вещей» выражает смысл греческого термина а·он’ более чем в 30 случаях его появления в Христианских Греческих Писаниях.… По этой причине, когда отличительные черты периода, а не само время, являются более заметной мыслью в конкретном тексте, ai·on’ может быть уместно переведено как «система вещей» или «состояние». Целесообразность этого показана в Галатам 1:4, где апостол пишет: «Он отдал Себя за наши грехи, чтобы избавить нас от нынешней нечестивой системы вещей [форма ai·on′] по воле наш Бог и Отец».
Далее в статье говорится, что «Система вещей» описывает «эпоху» или «эпоху», но эти слова недостаточно описательны; следовательно, лучший способ описать мир в любой момент времени — это сказать «система вещей». Но, как и в случае со многими другими фразами Сторожевой Башни, они практически единственные в переводе ai·on′ как «система вещей». Вот сравнение других переводов Послания к Галатам 1:4, которое статья Insight дала как хороший пример того, почему они решили использовать «систему вещей».
NIV написал:предавший Себя за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего,
ASV написал:предавший Себя за грехи наши, чтобы избавить нас от сего нынешний злой мир, по воле Бога и Отца нашего:
Полная еврейская Библия написал:кто отдал Себя за наши грехи, чтобы он мог избавить нас от нынешней злой мировой системы, повинуясь воле Бога, наш отец.
Дуэ-Реймс писал: Кто отдал Себя за наши грехи, чтобы избавить нас от нынешнего нечестивого мира по воле Бога и Отца нашего:
English Standard Version написал:кто отдал Себя за наши грехи, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, согласно воле нашего Бога и Отца,
Перевод Слова Бога написал:Чтобы освободить нас от настоящего злого мира, Христос взял на Себя наказание за наши грехи, потому что этого хотел наш Бог и Отец.
…вы поняли. На той странице со сравнительными переводами я насчитал:
- 15 переводов говорят «возраст»;
- 14 переводов говорят «мир»;
- 1 перевод (Полная еврейская Библия) говорит «мир-система».
И, стоя отдельно, почтенный СЗТ использует фразу «система вещей».
Теперь я мог бы углубиться в эту статью Insight и разобрать ее по пунктам, поскольку она настаивает на том, что «система вещей» подходит больше, чем «мир» или «эпоха». Но… если оставить в стороне сомнительную мудрость сторожевой башни…
Насколько СТРАННО называть этот мир «системой вещей»??? Что, черт возьми, это вообще значит??? Как можно обобщить весь мир, с его сотнями стран, людей, правительств, религий, философий и традиций, и подытожить, назвав все это единой «системой»?
И… система… ВЕЩЕЙ??? Простите мое невежество, но о каких «вещах» мы говорим? Мы говорим о таких вещах, как гамбургеры Биг Мак, компьютерные микропроцессорные чипы, женское нижнее белье, компакт-диски Джастина Бибера, банки Pabst Blue Ribbon, небоскребы, самодельные взрывные устройства, большие кучи дымящихся коровьих какашек, енотовые шапки, батончики Kit Kat, стикеры Post-It? заметки… другими словами, все «вещи», которые окружают нас в физическом мире?
Серьезно, какие «вещи» составляют «злую систему ВЕЩЕЙ»? Я имею в виду, что я только что перечислил целую кучу «вещей», которые пришли мне в голову, и, за исключением компакт-дисков Джастина Бибера и СВУ, ни одна из этих «вещей» не может быть классифицирована как «злая».
Но… если оставить в стороне сомнительную мудрость сторожевой башни…
Насколько СТРАННО называть этот мир «системой вещей»??? Что, черт возьми, это вообще значит??? Как можно обобщить весь мир, с его сотнями стран, людей, правительств, религий, философий и традиций, и подытожить, назвав все это единой «системой»?
И… система… ВЕЩЕЙ??? Простите мое невежество, но о каких «вещах» мы говорим? Мы говорим о таких вещах, как гамбургеры Биг Мак, компьютерные микропроцессорные чипы, женское нижнее белье, компакт-диски Джастина Бибера, банки Pabst Blue Ribbon, небоскребы, самодельные взрывные устройства, большие кучи дымящихся коровьих какашек, енотовые шапки, батончики Kit Kat, стикеры Post-It? заметки… другими словами, все «вещи», которые окружают нас в физическом мире?
Серьезно, какие «вещи» составляют «злую систему ВЕЩЕЙ»? Я имею в виду, что я только что перечислил целую кучу «вещей», которые пришли мне в голову, и, за исключением компакт-дисков Джастина Бибера и СВУ, ни одна из этих «вещей» не может быть классифицирована как «злая».


 Действительно, Бодрийяр широко пользуется лингвистическими категориями структуральной семиотики — прежде всего понятием «коннотации», дополнительного смысла, приписываемого обществом обычному знаку или, в данном случае, вещи; он открыто опирается на опыт Ролана Барта, который в книге «Мифологии» (1957) обосновал это понятие и в работах последующих лет стремился распространить семиотические методы на сферу повседневного быта. Само название книги Бодрийяра — «Система вещей» — соотносится с заголовком последней на тот момент работы Барта «Система моды» (1967), с которой её сближает и задача методического описания легковесной, казалось бы, сферы бытовых вкусов и привычек как стройной многоуровневой системы значений.
Действительно, Бодрийяр широко пользуется лингвистическими категориями структуральной семиотики — прежде всего понятием «коннотации», дополнительного смысла, приписываемого обществом обычному знаку или, в данном случае, вещи; он открыто опирается на опыт Ролана Барта, который в книге «Мифологии» (1957) обосновал это понятие и в работах последующих лет стремился распространить семиотические методы на сферу повседневного быта. Само название книги Бодрийяра — «Система вещей» — соотносится с заголовком последней на тот момент работы Барта «Система моды» (1967), с которой её сближает и задача методического описания легковесной, казалось бы, сферы бытовых вкусов и привычек как стройной многоуровневой системы значений. Структурный метод из научного метаязыка, метода критики современного общества незаметно превращается в один из объектов критического анализа. Подобное происходит в «Системе вещей» и с марксизмом, популярным в то время среди французских интеллектуалов не лишне напомнить, что книга вышла в 1968 году — в год «студенческой революции» в Париже, причём застрельщиками массовых выступлений явились тогда студенты Нантерского университета — того самого, где преподавал социологию Жан Бодрийяр). С одной стороны, в книге предпринята попытка углубить марксистскую критику буржуазного общества, выявив механизмы подчинения, отчуждения личности не только в сфере товарного производства, но и в сфере потребления, которую марксисты до тех пор были скорее склонны считать прибежищем человеческой свободы и индивидуальности. С другой стороны, такое углубление и расширение перспективы вскоре показало Бодрийяру, что сам феномен капиталистического производства в новейшую эпоху уже не является центральным и определяющим, что он сам включён в систему знаковых отношений на правах более или менее условной подсистемы.
Структурный метод из научного метаязыка, метода критики современного общества незаметно превращается в один из объектов критического анализа. Подобное происходит в «Системе вещей» и с марксизмом, популярным в то время среди французских интеллектуалов не лишне напомнить, что книга вышла в 1968 году — в год «студенческой революции» в Париже, причём застрельщиками массовых выступлений явились тогда студенты Нантерского университета — того самого, где преподавал социологию Жан Бодрийяр). С одной стороны, в книге предпринята попытка углубить марксистскую критику буржуазного общества, выявив механизмы подчинения, отчуждения личности не только в сфере товарного производства, но и в сфере потребления, которую марксисты до тех пор были скорее склонны считать прибежищем человеческой свободы и индивидуальности. С другой стороны, такое углубление и расширение перспективы вскоре показало Бодрийяру, что сам феномен капиталистического производства в новейшую эпоху уже не является центральным и определяющим, что он сам включён в систему знаковых отношений на правах более или менее условной подсистемы.
 Правда, в своём анализе бытовых вещей Бодрийяр ещё выделяет «нулевой уровень» симуляции — уровень чисто функциональных, собственно технологических задач и решений, которые внутренне не зависят от знаковой системы потребления, однако могут искажаться и сдерживаться ей в своём развитии. Именно под давлением этой системы, пишет он вслед за другими социологами (Льюисом Мамфордом, Эдгаром Мореном), бытовая техника уже несколько десятилетий переживает стагнацию, не обогащаясь какими-либо принципиально новыми объектами и решениями; в скором будущем его безрадостная констатация была опровергнута появлением такой революционной технической новинки, как персональный компьютер.
Правда, в своём анализе бытовых вещей Бодрийяр ещё выделяет «нулевой уровень» симуляции — уровень чисто функциональных, собственно технологических задач и решений, которые внутренне не зависят от знаковой системы потребления, однако могут искажаться и сдерживаться ей в своём развитии. Именно под давлением этой системы, пишет он вслед за другими социологами (Льюисом Мамфордом, Эдгаром Мореном), бытовая техника уже несколько десятилетий переживает стагнацию, не обогащаясь какими-либо принципиально новыми объектами и решениями; в скором будущем его безрадостная констатация была опровергнута появлением такой революционной технической новинки, как персональный компьютер.
