Постмодернизм википедия: Постмодернизм — Postmodernity — qaz.wiki
Постмодернизм — Postmodernity — qaz.wiki
социальное состояние после современности
Эта статья о состоянии или состоянии жизни. Для философии см Постмодернизм .Постмодерн ( постсовременность или постмодерна ) является экономическим или культурным состояние или состояние общества , которое , как говорят , существует после современности . Некоторые школы мысли считают, что современность закончилась в конце 20-го века — в 1980-х или начале 1990-х годов — и что она была заменена постмодерном, а третьи распространят современность, чтобы охватить события, обозначенные постмодернизмом, в то время как некоторые считают, что современность когда-то закончилась. после Второй мировой войны. Идея постмодернистского состояния иногда характеризуется как культура, лишенная способности функционировать в любом линейном или автономном состоянии, таком как регрессивный изоляционизм, в отличие от прогрессивного состояния сознания модернизма .
Постмодернизм может означать личный ответ на постмодернистское общество, условия в обществе, которые делают его постмодернистским, или состояние бытия , связанное с постмодернистским обществом, а также исторической эпохой. В большинстве случаев его следует отличать от постмодернизма , принятия постмодернистских философий или черт в искусстве, культуре и обществе. Фактически, сегодня исторические перспективы развития постмодернистского искусства (постмодернизма) и постмодернистского общества (постмодернизма) лучше всего можно описать как два общих термина для процессов, вовлеченных в продолжающиеся диалектические отношения, такие как постпостмодернизм , результатом которых является развивающееся культура современного мира.
Некоторые комментаторы отрицают, что современность закончилась, и считают, что послевоенная эпоха является продолжением современности, которую они называют поздней современностью .
Использование термина
Постмодернизм — это состояние или состояние постмодернизма — после или в ответ на то, что является современным, как в постмодернистском искусстве ( см. Постмодернизм ). Современность определяется как период или состояние, которое свободно отождествляется с прогрессивной эрой, промышленной революцией или Просвещением . В философии и критической теории постмодернизм относится к состоянию или состоянию общества, которое, как говорят, существует после модерна , историческому состоянию, которое отмечает причины конца модерна . Это использование приписывают философам Жан-Франсуа Лиотар и Жан Бодрийяр .
Постмодернизм ). Современность определяется как период или состояние, которое свободно отождествляется с прогрессивной эрой, промышленной революцией или Просвещением . В философии и критической теории постмодернизм относится к состоянию или состоянию общества, которое, как говорят, существует после модерна , историческому состоянию, которое отмечает причины конца модерна . Это использование приписывают философам Жан-Франсуа Лиотар и Жан Бодрийяр .
Один из «проектов» современности, по словам Хабермаса , заключался в содействии прогрессу путем включения принципов рациональности и иерархии в общественную и художественную жизнь. (См. Также постиндустриальный , информационный век .) Лиотар понимал современность как культурное состояние, характеризующееся постоянными изменениями в стремлении к прогрессу. Постмодерн представляет собой кульминацию этого процесса, когда постоянные изменения превратились в
Литературный критик Фредрик Джеймсон и географ Дэвид Харви определили постмодернизм с « поздним капитализмом » или «гибким накоплением», этапом капитализма, следующим за финансовым капитализмом , характеризующимся высокой мобильностью труда и капитала и тем, что Харви называл «сжатием времени и пространства». Они предполагают, что это совпадает с распадом Бреттон-Вудской системы, которая, по их мнению, определила экономический порядок после Второй мировой войны. (См. Также консьюмеризм , критическая теория .)
Те, кто в целом считает современность устаревшей или откровенной неудачей, изъяном в эволюции человечества, ведущим к таким бедствиям, как Освенцим и Хиросима , видят постмодерн как положительное явление. Другие философы, особенно те, кто считает себя участниками современного проекта , рассматривают состояние постмодерна как негативное следствие приверженности постмодернистским идеям. Например, Юрген Хабермас и другие утверждают, что постмодерн представляет собой возрождение давних идей контрпросвещения , что современный проект не завершен и что универсальность не может быть так легко обойдена. Постмодернизм как следствие приверженности постмодернистским идеям, как правило, является отрицательным термином в этом контексте.
Другие философы, особенно те, кто считает себя участниками современного проекта , рассматривают состояние постмодерна как негативное следствие приверженности постмодернистским идеям. Например, Юрген Хабермас и другие утверждают, что постмодерн представляет собой возрождение давних идей контрпросвещения , что современный проект не завершен и что универсальность не может быть так легко обойдена. Постмодернизм как следствие приверженности постмодернистским идеям, как правило, является отрицательным термином в этом контексте.
Постмодернизм
Постмодернизм — это состояние или состояние, в котором они связаны с изменениями институтов и творений ( Giddens , 1990), а также с социальными и политическими результатами и инновациями в глобальном масштабе, но особенно на Западе с 1950-х годов, тогда как постмодернизм — это эстетический, литературный, политический или социальная философия, «культурный и интеллектуальный феномен», особенно после новых движений в искусстве 1920-х годов. Оба эти термины используются философов, социологов и социальных критиков относятся к аспектам современной культуры, экономики и общества , которые являются результатом особенностей конце 20 — го века и в начале жизни 21 — го века, в том числе фрагментации власти и коммерциализацию из знания ( см. « Современность »).
Отношения между постмодерном и критической теорией, социологией и философией яростно оспариваются. Термины «постмодернизм» и «постмодернизм» часто трудно различить, первое часто является результатом второго. Этот период имел различные политические разветвления: его «антиидеологические идеи», по-видимому, были связаны с феминистским движением , движениями за расовое равенство, движениями за права геев , большинством форм анархизма конца 20-го века и даже движением за мир, а также различными гибридами. из них в нынешнем антиглобалистском движении . Хотя ни один из этих институтов не охватывает полностью все аспекты постмодернистского движения в его наиболее концентрированном определении, все они отражают или заимствуют некоторые из его основных идей.
История
Некоторые авторы, такие как Лиотар и Бодрийяр , полагают, что современность закончилась в конце 20-го века и, таким образом, определила период, следующий за модерном, а именно постмодернизм, в то время как другие, такие как Бауман и Гидденс , расширили современность, чтобы охватить события, обозначенные постмодернизмом. . Другие до сих пор утверждают, что современность закончилась викторианской эпохой в 1900-х годах.
Постмодерн пережил две относительно разные фазы: первая началась в конце 1940-х и 1950-х годах и закончилась холодной войной (когда аналоговые СМИ с ограниченной пропускной способностью поощряли несколько авторитетных медиа-каналов), а вторая началась в конце холодной войны ( отмечен распространением кабельного телевидения и «новых медиа», основанных на цифровых средствах распространения информации и вещания).
Первая фаза постмодернити перекрывает конец современности и является частью современного периода (см lumpers / делителей , периодизация ) . Телевидение стало основным источником новостей, производство в странах Западной Европы и США снизилось, но объемы торговли в развитых странах увеличились. В 1967–1969 годах в развитом мире произошел решающий культурный взрыв, когда поколение бэби-бума , выросшее с постмодерном как фундаментальным опытом общества, потребовало вхождения в политическую, культурную и образовательную структуру власти. Серия демонстраций и восстаний — от ненасильственных и культурных до насильственных террористических актов — представляла оппозицию молодежи политике и взглядам прошлого века. Противодействие алжирской войне и войне во Вьетнаме , законам, разрешающим или поощряющим расовую сегрегацию, а также законам, открыто дискриминирующим женщин и ограничивающим доступ к разводу , увеличению употребления марихуаны и психоделиков , появлению поп-культурных стилей музыки и драмы, в том числе рок-музыка и повсеместное распространение стерео , телевидения и радио помогли сделать эти изменения заметными в более широком культурном контексте.
Вторая фаза постмодерна — это « дигитальность » — растущая мощь личных и цифровых средств связи, включая факсы, модемы, кабельный и высокоскоростной Интернет, которая кардинально изменила состояние постмодерна: цифровое производство информации позволяет людям виртуально манипулировать каждый аспект медиа-среды. Это привело производителей к конфликту с потребителями по поводу интеллектуального капитала и интеллектуальной собственности и привело к созданию новой экономики , сторонники которой утверждают, что резкое падение информационных затрат коренным образом изменит общество.
Цифровость, или то, что Эстер Дайсон назвала «цифровым», возникла как отдельное условие от постмодерна. Возможность манипулировать элементами популярной культуры, Всемирная паутина, использование поисковых систем для индексации знаний и телекоммуникации производили «конвергенцию», отмеченную ростом « культуры участия », как сказал Генри Дженкинс .
Одной из отличительных черт этой эпохи является распад Советского Союза и либерализация Китая в 1991 году. Фрэнсис Фукуяма написал «Конец истории» в 1989 году в ожидании падения Берлинской стены. Он предсказал, что на вопрос политической философии дан ответ, что крупномасштабные войны за фундаментальные ценности больше не будут возникать, поскольку «все предыдущие противоречия разрешены и все человеческие потребности удовлетворены». Это своего рода «эндизм», которого также придерживался Артур Данто, который в 1984 году провозгласил, что коробки Брилло Энди Уорхола задают правильный вопрос об искусстве, и, следовательно, искусство прекратилось.
Описания
Различия в философии и критической теории
В дебатах о постмодерне есть два различных элемента, которые часто путают; (1) природа современного общества и (2) характер критики современного общества. Первый из этих элементов связан с характером изменений, произошедших в конце 20 века. Есть три основных анализа. Такие теоретики, как Каллиникос (1991) и Калхун (1995), предлагают консервативную позицию в отношении природы современного общества, преуменьшая значение и масштабы социально-экономических изменений и подчеркивая преемственность с прошлым. Во-вторых, ряд теоретиков попытался проанализировать настоящее как развитие «современного» проекта во вторую, отчетливую фазу, которая, тем не менее, все еще остается «современностью»: Ульрих Бек назвал это «вторым» или «рискованным» обществом. (1986), «поздняя» или «высокая» современность Гидденса (1990, 1991), «жидкая» современность Зигмунта Баумана (2000) и «сетевое» общество Кастельса (1996, 1997). В-третьих, это те, кто утверждает, что современное общество перешло буквально в постмодернистскую фазу, отличную от модерна. Наиболее яркими сторонниками этой позиции являются Лиотар и Бодрийяр .
Первый из этих элементов связан с характером изменений, произошедших в конце 20 века. Есть три основных анализа. Такие теоретики, как Каллиникос (1991) и Калхун (1995), предлагают консервативную позицию в отношении природы современного общества, преуменьшая значение и масштабы социально-экономических изменений и подчеркивая преемственность с прошлым. Во-вторых, ряд теоретиков попытался проанализировать настоящее как развитие «современного» проекта во вторую, отчетливую фазу, которая, тем не менее, все еще остается «современностью»: Ульрих Бек назвал это «вторым» или «рискованным» обществом. (1986), «поздняя» или «высокая» современность Гидденса (1990, 1991), «жидкая» современность Зигмунта Баумана (2000) и «сетевое» общество Кастельса (1996, 1997). В-третьих, это те, кто утверждает, что современное общество перешло буквально в постмодернистскую фазу, отличную от модерна. Наиболее яркими сторонниками этой позиции являются Лиотар и Бодрийяр .
Другой набор вопросов касается природы критики, часто воспроизводящей споры по поводу (что можно грубо назвать) универсализма и релятивизма , где модернизм рассматривается как олицетворение первого, а постмодернизм — второго. Сейла Бенхабиб (1995) и Джудит Батлер (1995) продолжают эту дискуссию в отношении феминистской политики, Бенхабиб утверждает, что постмодернистская критика включает три основных элемента; анти-foundationalist понятие субъекта и личности, о смерти истории и представлений о телеологии и прогрессе, а также смерти метафизики , определенной как поиск объективной истины. Бенхабиб решительно выступает против этих критических позиций, считая, что они подрывают основы, на которых может быть основана феминистская политика, устраняя возможность свободы воли, чувство самости и присвоения женской истории во имя эмансипированного будущего. Отрицание нормативных идеалов устраняет возможность утопии, центральной для этического мышления и демократических действий.
Батлер отвечает Бенхабибу, утверждая, что ее использование постмодернизма является выражением более широкой паранойи по поводу антифундаменталистской философии, в частности, постструктурализма .
Постмодернизму приписывается ряд позиций: дискурс — это все, что есть, как если бы дискурс был неким монистическим материалом, из которого все состоит; субъект мертв, я больше никогда не смогу сказать «я»; нет реальности, только представление. Эти характеристики по-разному приписываются постмодернизму или постструктурализму, которые объединяются друг с другом, а иногда и с деконструкцией, и понимаются как неразборчивое собрание французского феминизма, деконструкции, лакановского психоанализа, анализа Фуко, разговорной речи Рорти и культурных исследований … На самом деле, этим движениям противостоят: Лаканианский психоанализ во Франции официально позиционирует себя против постструктурализма, что Фуко редко относятся к Дерридидианам … Лиотар поддерживает этот термин, но его нельзя превратить в пример того, что делают все остальные предполагаемые постмодернисты. . Например, работа Лиотара серьезно расходится с работой Деррида.
Батлер использует дебаты о природе постмодернистской критики, чтобы продемонстрировать, как философия вовлечена в отношения власти, и защищает постструктуралистскую критику, утверждая, что критика самого предмета является началом анализа, а не концом, потому что первая задача Исследование — это оспаривание принятых «универсальных» и «объективных» норм.
Дебаты Бенхабиба-Батлера демонстрируют, что не существует простого определения теоретика постмодерна, поскольку оспаривается само определение постмодерна. Мишель Фуко явно отвергает ярлык постмодернизма в интервью, но многие, в том числе Бенхабиб, считают его сторонником «постмодернистской» формы критики в том смысле, что она порывает с утопической и трансцендентальной «современной» критикой, называя универсальными нормами Просвещения. под вопросом. Гидденс (1990) отвергает эту характеристику «современной критики», указывая на то, что критика универсалий Просвещения была центральной для философов современного периода, в первую очередь Ницше.
под вопросом. Гидденс (1990) отвергает эту характеристику «современной критики», указывая на то, что критика универсалий Просвещения была центральной для философов современного периода, в первую очередь Ницше.
Постмодернистское общество
Джеймсон рассматривает ряд явлений как отличия постмодерна от современности. Он говорит о «новом виде поверхностности » или «бездонности», в которых модели, которые когда-то объясняли людей и вещи с точки зрения «внутреннего» и «внешнего» (например, герменевтика , диалектика , фрейдистское подавление , экзистенциалистское различие между аутентичность и неподлинность, а также семиотическое различие означающего и означаемого) были отвергнуты.
Во-вторых, это отказ от модернистского « утопического жеста», очевидного у Ван Гога, трансформации через искусство страдания в красоту, тогда как в движении постмодернизма объектный мир претерпел «фундаментальную мутацию», так что он «теперь стал набором текстов или симулякров »(Джеймсон 1993: 38). В то время как модернистское искусство стремилось искупить и сакрализовать мир, дать ему жизнь (мы могли бы сказать, следуя Граффу, чтобы вернуть миру очарование, которое у него отняла наука и упадок религии), постмодернистское искусство наделяет мир мир является «смертоносным качеством … чья ледяная элегантность в рентгеновских лучах умерщвляет овеществленный глаз зрителя таким образом, который, казалось бы, не имеет ничего общего со смертью, или одержимостью смертью, или страхом смерти на уровне содержания» (там же). . Графф видит истоки этой преобразующей миссии искусства в попытке заменить религию искусством, чтобы придать смысл миру, который был устранен подъемом науки и рациональностью Просвещения — но в период постмодерна это считается бесполезным.
Третья особенность эпохи постмодерна, которую определяет Джеймсон, — это «угасание аффекта» — не то, что все эмоции исчезли из эпохи постмодерна, но то, что в них отсутствует особый вид эмоции, такой как та, что присутствует в « волшебных цветах Рембо », которые оглянись на себя ». Он отмечает, что « стилизация затмевает пародию », поскольку «растущая недоступность личного стиля» приводит к тому, что стилизация становится универсальной практикой.
Он отмечает, что « стилизация затмевает пародию », поскольку «растущая недоступность личного стиля» приводит к тому, что стилизация становится универсальной практикой.
Джеймсон утверждает, что расстояние «было отменено» в постмодерне, что мы «погружены в его отныне заполненные и залитые объемы до такой степени, что наши теперь постмодернистские тела лишены пространственных координат». Это «новое глобальное пространство» составляет «момент истины» постмодернизма. Различные другие черты постмодерна, которые он определяет, «теперь можно рассматривать как частные (но конститутивные) аспекты одного и того же общего пространственного объекта». В эпоху постмодерна произошли изменения в социальной функции культуры. Он определяет культуру в современную эпоху как обладающую свойством «полуавтономности», с «существованием … над практическим миром существующего», но в эпоху постмодерна культура была лишена этой автономии, культура лишилась этой автономии. расширен, чтобы поглотить всю социальную сферу, так что все становится «культурным». «Критическая дистанция», предположение о том, что культуру можно расположить вне «массивного Существа капитала », от которого зависят левые теории культурной политики, вышло из моды. «Невероятная новая экспансия многонационального капитала заканчивается проникновением и колонизацией тех самых докапиталистических анклавов (Природа и Бессознательное), которые предлагали экстерриториальные и архимедовы опоры для критической эффективности». (Джеймсон 1993: 54)
Социальные науки
Можно сказать, что постмодернистская социология сосредоточена на условиях жизни, которые стали все более распространенными в конце 20-го века в наиболее промышленно развитых странах, включая повсеместное распространение средств массовой информации и массового производства, подъем глобальной экономики и переход от производственной экономики к экономике услуг. . Джеймсон и Харви описали это как потребительство , при котором производство, распространение и распространение стали исключительно дешевыми, но социальные связи и сообщества стали более редкими.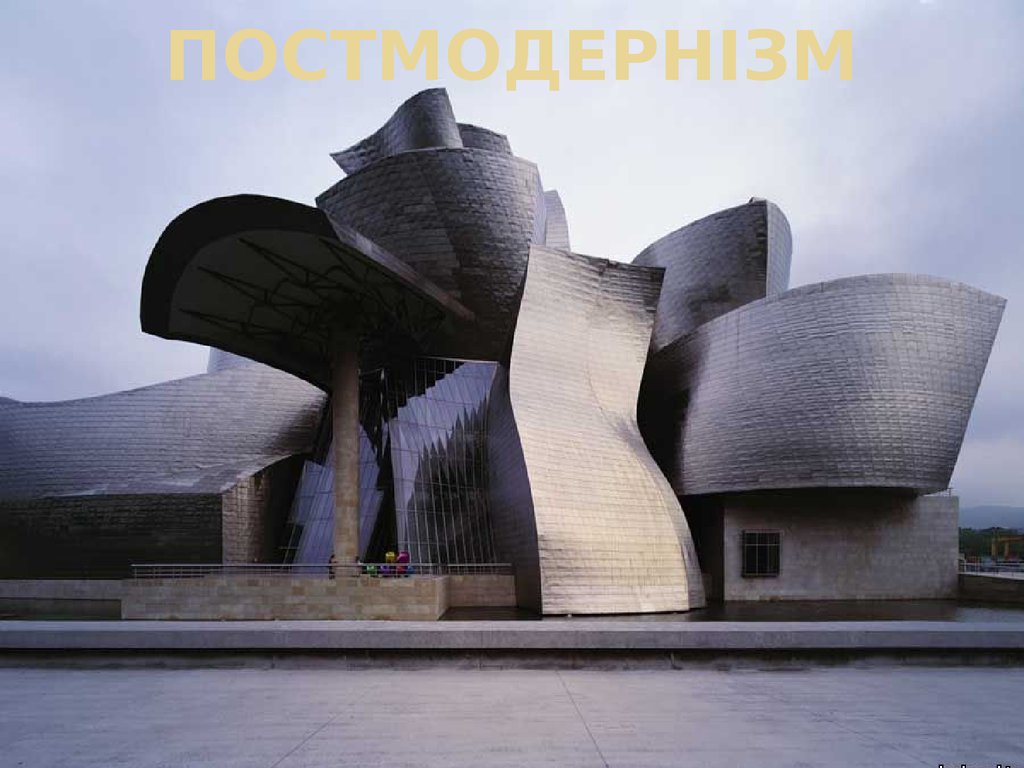 Другие мыслители утверждают, что постмодерн — это естественная реакция на массовое вещание в обществе, обусловленном массовым производством и массовой политикой. Работа Аласдера Макинтайра информирует о версиях постмодернизма, разработанных такими авторами, как Мерфи (2003) и Бельскис (2005), для которых постмодернистский пересмотр аристотелизма Макинтайром бросает вызов той потребительской идеологии, которая теперь способствует накоплению капитала.
Другие мыслители утверждают, что постмодерн — это естественная реакция на массовое вещание в обществе, обусловленном массовым производством и массовой политикой. Работа Аласдера Макинтайра информирует о версиях постмодернизма, разработанных такими авторами, как Мерфи (2003) и Бельскис (2005), для которых постмодернистский пересмотр аристотелизма Макинтайром бросает вызов той потребительской идеологии, которая теперь способствует накоплению капитала.
Социологический взгляд на постмодерн приписывает ему более быструю транспортировку, более широкую коммуникацию и способность отказаться от стандартизации массового производства, что приводит к системе, которая оценивает более широкий диапазон капитала, чем раньше, и позволяет хранить ценность в большем разнообразии форм. Харви утверждает, что постмодернизм — это уход от « фордизма », термина, введенного Антонио Грамши для описания режима промышленного регулирования и накопления, который преобладал в кейнсианскую эпоху экономической политики в странах ОЭСР с начала 1930-х до 1970-х годов. Для Харви фордизм связан с кейнсианством, поскольку первый касается методов производства и отношений между капиталом и трудом, а второй — экономической политики и регулирования. Таким образом, постфордизм является одним из основных аспектов постмодерна с точки зрения Харви.
Артефакты постмодерна включают засилье телевидения и массовой культуры , широкую доступность информации и массовые телекоммуникации. Постмодернизм также демонстрирует большее сопротивление принесению жертв во имя прогресса, заметного в энвайронментализме и растущем значении антивоенного движения. Постмодерн в промышленно развитом ядре отмечен растущим вниманием к гражданским правам и равным возможностям, а также к таким движениям, как феминизм и мультикультурализм, и негативной реакцией на эти движения. Постмодернистская политическая сфера отмечена множеством арен и возможностей гражданства и политического действия, касающегося различных форм борьбы с угнетением или отчуждением (в коллективах, определяемых полом или этнической принадлежностью), в то время как модернистская политическая арена остается ограниченной классовой борьбой.
Теоретики, такие как Мишель Маффезоли, считают, что постмодернизм разъедает обстоятельства, которые обеспечивают его существование, и в конечном итоге приведет к упадку индивидуализма и рождению новой эры неоплеменных племен .
Согласно теориям постмодернизма, экономические и технологические условия нашего времени привели к децентрализованному обществу, в котором доминируют средства массовой информации, в котором идеи являются лишь симулякрами , репрезентациями и копиями друг друга без реального, оригинального, стабильного или объективного источника. в связи и смысла. Глобализацию , вызванную инновациями в области коммуникации , производства и транспорта , часто называют одной силой, которая движет децентрализованной современной жизнью, создавая культурно плюралистическое и взаимосвязанное глобальное общество, лишенное какого-либо единого доминирующего центра политической власти, коммуникации или интеллектуального производства. Постмодернистская точка зрения состоит в том, что интерсубъективное , а не объективное знание будет доминирующей формой дискурса в таких условиях и что повсеместное распространение фундаментально изменяет отношения между читателем и тем, что читают, между наблюдателем и наблюдаемым, между теми, кто потребляет. и те, кто производят.
Постмодерн как сдвиг в эпистемологии
Другая концепция постмодерна — это эпистемологический сдвиг . Эта точка зрения предполагает, что способ, которым люди сообщают и оправдывают знания (то есть эпистемология), изменяется вместе с другими социальными изменениями, что культурные и технологические изменения 1960-х и 1970-х годов включали такой сдвиг, и что этот сдвиг следует обозначать как от современности к постмодернизм. [См. French (2016), French & Ehrman (2016) или Sørensen (2007).
Критика
Критику состояния постмодерна в целом можно разделить на четыре категории: критика постмодерна с точки зрения тех, кто отвергает модернизм и его ответвления, критика со стороны сторонников модернизма, которые считают, что постмодернизм лишен важнейших характеристик современного проекта, критики изнутри постмодерна, которые стремятся к реформе или изменениям, основываясь на своем понимании постмодернизма , и тех, кто считает, что постмодернизм — это преходящая, а не растущая фаза социальной организации.
Цитаты
- «Мы могли бы сказать, что каждая эпоха имеет свой собственный постмодернизм, так же как каждая эпоха имеет свою собственную форму маньеризма (на самом деле, мне интересно, не является ли постмодерн просто современным названием для * Manierismus * …). Я считаю, что каждая эпоха достигает кризисных моментов, подобных тем, которые описаны Ницше во втором « Несвоевременном размышлении» о вреде изучения истории. Ощущение, что прошлое ограничивает, душит, шантажирует нас ». — Умберто Эко, цитируемый в «Переписке о постмодернизме» Стефано Россо и Кэролайн Спрингер, граница 2, том. 12, No. 1. (Осень, 1983), pp. 1–13., Особенно. п. 2
Смотрите также
Примечания
Рекомендации
Источники
- Андерсон, Перри (1998). Истоки постмодерна . Лондон: Verso.
- Дили, Джон (2001). Четыре возраста понимания: первый постмодернистский обзор философии с древних времен до рубежа двадцать первого века . Торонто: Университет Торонто Press.
- Гидденс, Энтони (1990). Последствия современности . Кембридж: Polity Press.
- Гидденс, Энтони (1991). Современность и самоидентификация . Кембридж: Polity Press.
- Зигмунт Бауман (2000). Жидкая современность . Кембридж: Polity Press.
- Ульрих Бек (1986). Общество риска: к новой современности .
- Сейла Бенхабиб (1995). «Феминизм и постмодернизм» в (ред. Николсон) Феминистские утверждения: философский обмен . Нью-Йорк: Рутледж.
- Джудит Батлер (1995). «Условные фонды» в (ред. Николсон) Феминистские утверждения: философский обмен . Нью-Йорк: Рутледж.
- Мануэль Кастельс (1996). Сетевое общество .
- Генон, Рене (1927). Кризис современного мира . Хиллсдейл: София Переннис.
- Генон, Рене (1945). Царство количества и знамения времени .
 Хиллсдейл: София Переннис.
Хиллсдейл: София Переннис. - Харви, Дэвид (1990). Состояние постмодерна. Исследование истоков культурных изменений . Оксфорд: Блэквелл.
- Ихаб Хассан (2000), От постмодернизма к постмодерну: локальный / глобальный контекст , текст онлайн.
- Жан-Франсуа Лиотар (1924–1998) был французским философом и теоретиком литературы, хорошо известным своим стремлением к постмодернизму после конца 1970-х годов. Он опубликовал «La Condition postmoderne: Rapport sur le savoir» (The Postmodern Condition: A Report on Knowledge) (1979).
- Чарльз Артур Уиллард . Либерализм и проблема знания: новая риторика для современной демократии. Издательство Чикагского университета. (1996).
дальнейшее чтение
- Олброу, Мартин (1996). Глобальная эпоха: государство и общество вне современности . Стэнфорд, Калифорния: Издательство Стэнфордского университета. ISBN 0-8047-2870-4 .
- Ballesteros, Jesús , 1992. Постмодерн: упадок или сопротивление , Памплона, Эмисе.
- Бодрийяр, Дж. 1984. Моделирование . Нью-Йорк: Полутекст (е) .
- Берман, Маршалл. 1982. Все твердое растворяется в воздухе. Опыт современности . Лондон: Verso.
- Бельскис, Андрюс. 2005. К постмодернистскому пониманию политического . Хаундмиллс, Нью-Йорк: Пэлгрейв Макмиллан.
- Чан, Эванс. 2001. «Против постмодернизма и т. Д. — Разговор со Сьюзен Зонтаг» в Postmodern Culture , vol. 12 ч. 1, Балтимор: издательство Университета Джона Хопкинса.
- Дочерти, Томас. 1993. (ред.), Постмодернизм: Читатель , Нью-Йорк: Harvester Wheatsheat.
- Докер, Джон. 1994. Постмодернизм и популярная культура: история культуры. Кембридж: Издательство Кембриджского университета.
- Иглтон, Терри. «Капитализм, модернизм и постмодернизм». Против зерна: Очерки 1975–1985 .
 Лондон: Verso, 1986. С. 131–47.
Лондон: Verso, 1986. С. 131–47. - Фостер, Х. 1983. Антиэстетика . США: Bay Press.
- Фьюери, Патрик и Мэнсфилд, Ник. 2001. Культурология и критическая теория . Мельбурн: Издательство Оксфордского университета.
- Графф, Джеральд. 1973. «Миф о постмодернистском прорыве» в Triquarterly , вып. 26, Winter 1973, стр. 383–417.
- Гребович, Маргрет. 2007. Пол после Лиотара . Нью-Йорк: Санни Пресс.
- Гренц, Стэнли Дж. 1996. Букварь по постмодернизму. Гранд-Рапидс: Эрдманс
- Хабермас, Юрген «Современность — незавершенный проект» (у Дочерти, там же)
- Хабермас, Юрген. 1981. пер. пользователя Сейла Бен-Хабиб. «Современность против постмодерна». в V Taylor & C Winquist; первоначально опубликовано в New German Critique , No. 22, Зима 1981 г., стр. 3–14.
- Джеймсон, Ф. 1993. « Постмодернизм, или культурная логика позднего капитализма » (в Дочерти, там же).
- Дженкс, Чарльз. 1986. Что такое постмодернизм? Нью-Йорк: Издательство Св. Мартина и Лондон: Выпуски Академии.
- Джойс, Джеймс. 1964. Улисс . Лондон: Бодли-Хед.
- Липовецкий, Жиль. 2005. Гипермодернистские времена . Корнуолл: Polity Press.
- Лиотар, Дж. 1984. Состояние постмодерна: отчет о знаниях . Манчестер: Издательство Манчестерского университета
- Мэнсфилд, Н. 2000. Субъективность: теории личности от Фрейда до Харроуэя . Сидней: Аллен и Анвин.
- Макхейл, Брайан. 1990. «Конструируя (пост) модернизм: Дело Улисса» в Стиле , т. 24 нет. 1, pp. 1–21, DeKalb, Illinois: факультет английского языка Университета Северного Иллинойса.
- Мерфи, Марк К. (редактор) 2003. Аласдер Макинтайр . Кембридж: Издательство Кембриджского университета.
- Палмери, Франк. 2001. «Помимо постмодерна? — Фуко, Пинчон, гибридность, этика» в Postmodern Culture , vol.
 12 ч. 1, Балтимор: издательство Университета Джона Хопкинса.
12 ч. 1, Балтимор: издательство Университета Джона Хопкинса. - Пинкни, Тони. 1989. «Модернизм и теория культуры», введение редактора к Williams, Raymond. Политика модернизма: против новых конформистов . Лондон: Verso.
- Тейлор, В. и Винквист, (ред.). 1998. Постмодернизм: Критические концепции (т. 1-2). Лондон: Рутледж.
- Уил, Н. 1995. Постмодернистское искусство: вводный читатель . Нью-Йорк: Рутледж.
внешняя ссылка
книги
Почему любимыми персонажами советских мультфильмов были злодеи, чем русский постмодернизм отличается от нерусского и за что Бог убивает Веничку в поэме «Москва — Петушки»? Обсудили с филологом Марком Липовецким его научную биографию.
Первым вас начал обучать литературоведению Наум Лазаревич Лейдерман, ваш отец?
Чтобы было понятнее, как отец учил меня профессии, приведу такой пример. Когда мне было лет четырнадцать, он вручил мне книгу Бахтина о Рабле и сборник «Вопросы литературы и эстетики», хотя никакой теории литературы я тогда еще не читал. Вручил и велел не только разобраться в концепции карнавальной культуры, но и подумать, нельзя ли выявить некую сентиментальную культуру (плачей, скорби, похорон и т. п.), которую можно было бы описать по образцу бахтинского карнавала. Идея, как я сейчас, понимаю, малоподходящая для четырнадцатилетнего неофита, но отцу важно было захватить меня масштабностью задачи. Конечно, ничего я не описал, да и отец оставил эту затею. Думаю, он к этому и не стремился. Зато он запустил процесс наших с ним разговоров о литературе и литературоведении, который длился до конца его жизни. С тех пор для меня эти разговоры стали органической потребностью — мы их непрерывно ведем и с моей женой, по совместительству коллегой и соавтором, Татьяной Михайловой, и с нашим сыном, искусствоведом и тоже русистом Даниилом Лейдерманом.
Отец всегда очень строго редактировал мои сочинения — он писал свои комментарии на полях моих рукописей (при этом требовал, чтобы поля были широкими). К сожалению, у меня не сохранились эти листы с саркастическими заметками отца. Почти всегда они были очень смешными, иногда убийственными — он не щадил моего самолюбия. Это была довольно суровая школа, но зато его редакторские требования я запомнил на всю жизнь.
К сожалению, у меня не сохранились эти листы с саркастическими заметками отца. Почти всегда они были очень смешными, иногда убийственными — он не щадил моего самолюбия. Это была довольно суровая школа, но зато его редакторские требования я запомнил на всю жизнь.
Мне было семнадцать лет, когда я написал критическую статью, которую отец отнес в журнал «Урал». Статья вышла в 1982 году, после чего я начал работать уже более или менее самостоятельно. Правда, мне надо было напечатать еще 3-4 статьи, прежде чем я перестал показывать отцу черновики своих текстов, знакомя его только с опубликованным вариантом. Он реагировал не менее бурно. Так, разбирая его архив, я обнаружил фактически целую тетрадку комментариев к моей статье о «Жизни и судьбе» Гроссмана, которая вышла в «Урале» в 1989 году. Я помню, тогда у нас с ним был довольно горячий разговор на эту тему: он не соглашался со мной, а я не соглашался с ним, но отец, оказывается, подготовился к этому разговору, написав подробный разбор моего сочинения.
Когда я поступил на филфак Уральского университета, отец придумал мне тему кандидатской (про литературную сказку), и дальше все курсачи и прочие длинные работы я писал с учетом этого плана. В итоге я защищал диплом, в котором было больше двухсот страниц — фактически там уже была основа моей диссертации и первой книжки «Поэтика литературной сказки». У меня были очень хорошие учителя в университете — Вера Химич, Гурий Щенников, Наталья Шляхтер, Виола Эйдинова, Леонид Быков, Мария Литовская, Игорь Васильев, — но главным учителем все равно оставался отец. Многие его идеи я, конечно же, так или иначе продолжал развивать. Во всяком случае, моя кандидатская была написана в русле его жанровой теории.
Вы не могли бы пояснить, что это за теория?
На мой взгляд, она недооценена, хотя и достаточно характерна для 1970–1980-х. По мнению отца, каждый жанр создает целостную модель мира, причем «иллюзию всемирности» о-формляет (он любил так писать это слово) жанровая структура — которую Наум Лазаревич детально описал. Отец доказывал, что, например, рассказ строит модель мира по принципу метонимии, роман — по принципу метафоры, а, скажем, лирическое стихотворение — по принципу потока лирических ассоциаций. Над этой теорией он работал с 1974 года, ее же защищал в своей докторской диссертации в 1982-м. Последняя книга отца, которая вышла спустя несколько дней после его смерти в 2010 году, так и называется — «Теория жанра». Поскольку отец думал на эти темы больше четверти века, книга получилась довольно полным сборником его работ разных лет, организованных теоретической композицией. Но главное — у отца был великий дар аналитика художественного произведения, вся его теория строилась на детальном разборе текстов, он очень тонко и чутко разбирал поэтику и показывал, как самые мелкие ее элементы могут играть жанрообразующую роль, как они приобретают структурное значение. И главное достоинство его теории жанра, по-моему, состоит в том, что она позволяет «включать» в теоретическую логику такие свойства жанровой организации, как интонация, хронотоп, субъектная организация и т. п. Сейчас вместе с Н. В. Барковской и О. Ю. Багдасарян мы подготовили том его избранных работ и воспоминаний о нем, который должен выйти в издательстве «Кабинетный ученый». Эта книга посвящена восьмидесятилетию Наума Лазаревича, но мне очень хочется верить в то, что его лучшие тексты по-прежнему могут удивлять свежестью и остротой аналитического взгляда.
Отец доказывал, что, например, рассказ строит модель мира по принципу метонимии, роман — по принципу метафоры, а, скажем, лирическое стихотворение — по принципу потока лирических ассоциаций. Над этой теорией он работал с 1974 года, ее же защищал в своей докторской диссертации в 1982-м. Последняя книга отца, которая вышла спустя несколько дней после его смерти в 2010 году, так и называется — «Теория жанра». Поскольку отец думал на эти темы больше четверти века, книга получилась довольно полным сборником его работ разных лет, организованных теоретической композицией. Но главное — у отца был великий дар аналитика художественного произведения, вся его теория строилась на детальном разборе текстов, он очень тонко и чутко разбирал поэтику и показывал, как самые мелкие ее элементы могут играть жанрообразующую роль, как они приобретают структурное значение. И главное достоинство его теории жанра, по-моему, состоит в том, что она позволяет «включать» в теоретическую логику такие свойства жанровой организации, как интонация, хронотоп, субъектная организация и т. п. Сейчас вместе с Н. В. Барковской и О. Ю. Багдасарян мы подготовили том его избранных работ и воспоминаний о нем, который должен выйти в издательстве «Кабинетный ученый». Эта книга посвящена восьмидесятилетию Наума Лазаревича, но мне очень хочется верить в то, что его лучшие тексты по-прежнему могут удивлять свежестью и остротой аналитического взгляда.
И в кандидатской вы обратились к теории жанра, разработанной вашим отцом.
В 1986-м я окончил университет, а защитился в 1989 году. Это было время перестройки, но формально все еще оставалось вполне советским, ни в какую аспирантуру меня не брали, я защищался как соискатель. Фактически моим руководителем был отец, а номинальный руководитель меня, мягко говоря, недолюбливал, поэтому к защите я шел в боевом режиме, публично полемизируя с собственным научным руководителем, который ставил мне разнообразные рогатки.
Наум Лейдерман. Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org
Материал вашей диссертации — сами литературные сказки — к какому периоду относился?
Диссертация, а потом и книга были о литсказках всего советского периода, но, прямо скажем, не очень советских. Самой «советской» была глава о «Трех толстяках» Олеши. Зато я чуть ли не первым написал о сборнике Евгения Замятина «Большим детям сказки», которые, несмотря на открытую политическую сатиру, как ни странно, в виде микрофильма были доступны в Ленинке. Центральная глава у меня была о Евгении Шварце, а в этой главе центральный параграф был посвящен «Дракону». Само собой, у меня была теория, согласно которой литературная сказка — прямая материализация бахтинской «памяти жанра», я пытался выявить носители этого неуловимого феномена, опираясь на О. М. Фрейденберг, И. Г. Франк-Каменецкого, Нортропа Фрая и других теоретиков. Кроме того, по ходу дела я доказывал, что литсказка — это такой жанровый барометр: есть эпохи, когда сказок мало и они малоинтересны, но зато в периоды социальных кризисов и неразрешимых тупиков сказка оказывается на подъеме. Получалась очень любопытная картина, последним таким периодом были 1970-е годы, что и подтвердилось как раз к тому моменту, когда я должен был защищаться. Эти политические аспекты, кстати, возражений не вызывали, зато вызывали сопротивление методологические и теоретические идеи. Почему — до сих пор не понимаю.
Параллельно с написанием диссертации я работал в дошкольном педагогическом училище, где преподавал детскую литературу и русский язык. Прелесть этого места была в том, что там занятия начинались в 17:00, а заканчивались в 23:00, поэтому у меня весь день был свободен и я мог работать над диссертацией и писать критические статьи. Я тогда был энергичным литературным критиком, что и вывело меня к следующей моей теме — постмодернизму.
Годы вашей учебы совпали с расцветом свердловской волны рока.
Это действительно так, но я ни разу ни на одном концерте не был, хотя, конечно, все эти имена мы знали: и Александра Пантыкина, и Егора Белкина, и Насти Полевой, и Вячеслава Бутусова.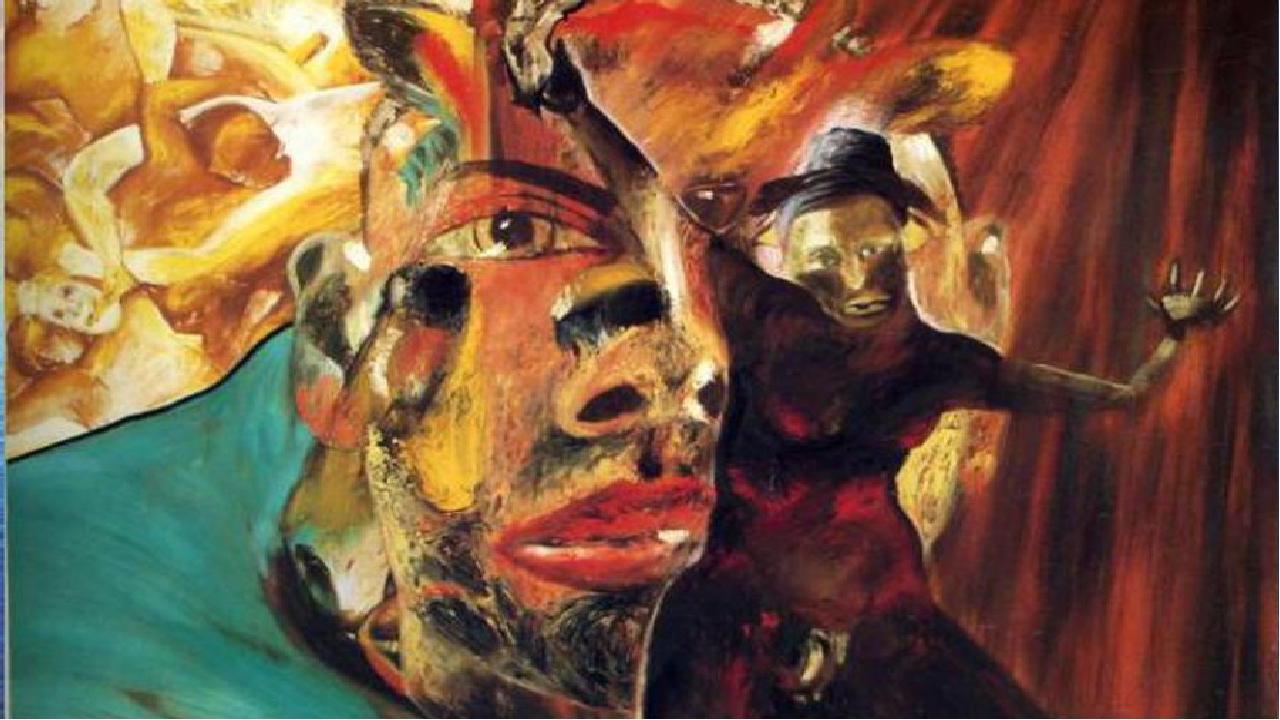 Я очень немузыкальный человек, это совсем не мое, но даже я что-то слушал в те годы. Однако в это время в Свердловске происходило много другого — например, великолепный подъем театра. Тогда в ТЮЗе ставил свои первые спектакли Анатолий Праудин, гремела его «Алиса в Зазеркалье», в том же театре дебютировал известный сегодня кино- и телережиссер Дмитрий Астрахан. Одновременно в Свердловской опере ставил свои первые спектакли известный сегодня оперный режиссер Александр Титель. На всех них, но особенно на Тителя, наезжал филиал общества «Память» — свердловское националистическое и открыто антисемитское общество «Отечество». Дискуссии шли на грани драки. С тех пор для меня очень важным человеком был и остается Олег Лоевский, который был тогда завлитом ТЮЗа и создавал общение между молодыми литераторами, режиссерами и театрами: все ходили на просмотры и участвовали в обсуждениях.
Я очень немузыкальный человек, это совсем не мое, но даже я что-то слушал в те годы. Однако в это время в Свердловске происходило много другого — например, великолепный подъем театра. Тогда в ТЮЗе ставил свои первые спектакли Анатолий Праудин, гремела его «Алиса в Зазеркалье», в том же театре дебютировал известный сегодня кино- и телережиссер Дмитрий Астрахан. Одновременно в Свердловской опере ставил свои первые спектакли известный сегодня оперный режиссер Александр Титель. На всех них, но особенно на Тителя, наезжал филиал общества «Память» — свердловское националистическое и открыто антисемитское общество «Отечество». Дискуссии шли на грани драки. С тех пор для меня очень важным человеком был и остается Олег Лоевский, который был тогда завлитом ТЮЗа и создавал общение между молодыми литераторами, режиссерами и театрами: все ходили на просмотры и участвовали в обсуждениях.
Кроме того, была очень энергичная литературная жизнь. В Екатеринбурге была вполне оформившаяся среда андеграунда. По разным причинам в городе сложилась необходимая критическая масса для этого. Были писатели старшего поколения, а среди них — Майя Петровна Никулина и Андрей Павлович Ромашов, которые понимали толк в экспериментах. Был журнал «Урал» во главе с Валентином Петровичем Лукьяниным. Наконец, это был серьезный университетский город, где жили ученые, которые профессионально следили за культурой в самых разных ее проявлениях — в частности, была научная школа эстетики Аркадия Федоровича Еремеева. В Екатеринбурге еще раньше, в 1960-х — начале 1970-х, существовала знаменитая «Уктусская школа», группа авангардистов, в которой участвовали Ры Никонова и Сергей Сигей; они к началу 1980-х уже уехали в Ейск, где выпускали самиздатский журнал «Транспонанс». А еще один участник этой школы, Евгений Арбенев продолжал работать художником в журнале «Урал». Он, оказывается, вел литературный дневник, и это был особый литературный эксперимент.
Уже в нашем поколении было несколько неформальных клубов, в которых собирались поэты, прозаики и примкнувшие к ним критики: Александр Верников, Аркадий Застырец, Валерий Исхаков, Юрий Казарин, приезжавший то из Перми, то из Челябинска Виталий Кальпиди, Евгений Касимов, Андрей Козлов, Вячеслав Курицын, Андрей Матвеев, Вадим Месяц, Игорь Сахновский, Ольга Славникова, Роман Тягунов, Светлана и Владимир Яницкие (кого-то наверняка забыл, простите!). Очень важным событием стала для многих публикация в «Урале» романа «Автопортрет с догом» Александра Иванченко, он жил тогда в Краснотурьинске и часто приезжал в Екатеринбург. Владимир Шаров с его первыми романами — один из них, «След в след», появился в «Урале» — тоже стал важным событием в нашей жизни. И, конечно, поэт Александр Еременко катализировал литературную среду, он тогда дружил с Евгением Касимовым и часто приезжал в город. Был знаменитый молодежный номер журнала «Урал», вышедший в 1988 году, а из него в итоге вырос журнал «Текст».
Очень важным событием стала для многих публикация в «Урале» романа «Автопортрет с догом» Александра Иванченко, он жил тогда в Краснотурьинске и часто приезжал в Екатеринбург. Владимир Шаров с его первыми романами — один из них, «След в след», появился в «Урале» — тоже стал важным событием в нашей жизни. И, конечно, поэт Александр Еременко катализировал литературную среду, он тогда дружил с Евгением Касимовым и часто приезжал в город. Был знаменитый молодежный номер журнала «Урал», вышедший в 1988 году, а из него в итоге вырос журнал «Текст».
В городе была весьма интересная школа художественного экспрессионизма. Недавно скончавшийся Виталий Волович, Михаил Брусиловский и целый ряд других художников были создателями этой школы. Еще одна очень важная фигура — старик Букашкин (Б. У. Кашкин). Это во многом уникальный феномен псевдофольклорного постмодернизма. Вместе со своими учениками и последователями он создавал постмодернистские перформансы: они расписывали помойки, устраивали уличные концерты, у себя в котельной Букашкин принимал гостей. Саша Шабуров, известный художник и участник группы «Синие носы», во многом считает себя его учеником, он выпустил замечательную книгу о Букашкине.
В целом была очень пестрая и яркая среда. Постепенно литераторы из этого круга стали публиковаться за пределами «Урала» и Уральского книжного издательства, что могло произойти только в перестройку. Именно в конце 1980–1990-х это брожение вышло за пределы Свердловска-Екатеринбурга, и теперь многие из этих людей живут в Москве и Питере, а иные, как говорится, далече.
Вы сказали, что с началом занятий критикой у вас появился интерес к постмодернизму. Расскажите об этом подробнее.
В это время начался всплеск андеграундной литературы. Набоков и русский модернизм в полном масштабе печатались в свежих журналах, и это очень важно: представьте, что вы читаете «Защиту Лужина» как литературную новинку. Удивительный эффект симультанности, когда все происходит одновременно: одинаковой новинкой оказывались Замятин с Набоковым и Венедикт Ерофеев с Сашей Соколовым и Сорокиным. Это создавало совершенно неповторимую культурную среду. Я в 1989 году опубликовал статью в журнале «Вопросы литературы», а это тогда было очень важным шагом в жизни литературного критика. Задним числом я понимаю, что это была статья о литературном постмодернизме, но я тогда даже не знал такого слова, поэтому пользовался термином «артистическая проза». В какой-то момент я узнал слово «постмодернизм», Вячеслав Курицын тоже его узнал, и мы стали читать все, что могли найти на эту темы, и одновременно писать теорию русского постмодернизма. Классический случай исправленной карты звездного неба.
Это создавало совершенно неповторимую культурную среду. Я в 1989 году опубликовал статью в журнале «Вопросы литературы», а это тогда было очень важным шагом в жизни литературного критика. Задним числом я понимаю, что это была статья о литературном постмодернизме, но я тогда даже не знал такого слова, поэтому пользовался термином «артистическая проза». В какой-то момент я узнал слово «постмодернизм», Вячеслав Курицын тоже его узнал, и мы стали читать все, что могли найти на эту темы, и одновременно писать теорию русского постмодернизма. Классический случай исправленной карты звездного неба.
Главная проблема, как мне сейчас кажется, состояла в том, что разделить модернизм и постмодернизм в русской культуре, особенно андеграундной, очень трудно. Русский постмодернизм вообще гораздо ближе к модернизму, чем западный, потому что он во многом возник как компенсация прерванной модернистской эволюции. При этом он появляется тогда же, когда и первые постмодернистские работы в Европе и США — в конце 1960-х — начале 1970-х годов. Творцы-классики русского постмодернизма, такие как Венедикт Ерофеев или Саша Соколов, которых мы тогда читали и о которых писали, тоже никакой постмодернистской терминологии не употребляли. Это было очень интересно, во всем тогда было много полемического задора, который осел только через много лет, да и то не до конца.
Из моих статей и публикаций на эту тему выросла идея заняться этим всерьез. И когда в 1994 году мне попало в руки приглашение подать заявку на гранты фонда Фулбрайта (это был первый год Фулбрайта в России, я даже не знал тогда, что такое грант!), я ее сочинил как план книги о русском постмодернизме. До того было проведено несколько конференций рабочей группы по изучению современной русской культуры, которую организовали Нэнси Конди, Владимир Падунов и Хелена Гощило, работавшие в университете Питтсбурга. Я участвовал в двух конференциях и подружился с ее организаторами. Поэтому когда выяснилось, что я получил грант и мне надо выбрать, в каком американском университете я хотел бы провести время, я назвал Питтсбургский университет. Так я оказался в Питтсбурге, где за год перечитал все, что нашел в университетской библиотеке про постмодернизм, и одновременно практически полностью написал свою книгу «Русский постмодернизм», которую потом, по возвращении в Екатеринбург, защитил как докторскую диссертацию. Потом я ее довольно сильно переделывал. Книга вышла в 1997 году, а ее английский вариант вышел в 1999-м благодаря помощи Элиота Боренстейна, профессора Нью-Йоркского университета, в 1994-м он же был главным офицером Фулбрайта — так что именно ему, а впоследствии и Марине Балиной, я обязан своей американской карьерой.
Так я оказался в Питтсбурге, где за год перечитал все, что нашел в университетской библиотеке про постмодернизм, и одновременно практически полностью написал свою книгу «Русский постмодернизм», которую потом, по возвращении в Екатеринбург, защитил как докторскую диссертацию. Потом я ее довольно сильно переделывал. Книга вышла в 1997 году, а ее английский вариант вышел в 1999-м благодаря помощи Элиота Боренстейна, профессора Нью-Йоркского университета, в 1994-м он же был главным офицером Фулбрайта — так что именно ему, а впоследствии и Марине Балиной, я обязан своей американской карьерой.
Году в 2005-м или в 2006-м я решил переиздать «Русский постмодернизм» на русском, немного расширить и переосмыслить. В итоге я написал практически новую книгу с небольшими фрагментами, оставшимися от первоначального варианта. Книга вышла в 2008 году в издательстве НЛО под названием «Паралогии», и та концепция постмодернизма, под которой я готов подписаться и сейчас, изложена именно там. В своих ранних работах я со многим уже сам не согласен.
А в чем ваша концепция заключается?
Русский постмодернизм достаточно органично продолжает развитие русского модернизма, и поэтому мы можем увидеть предвосхищения постмодернистской эстетики у Хармса, Набокова, Вагинова. Вообще в концепции постмодернизма (не важно — русского или западного) наиважнейшую роль играет введенный Деррида принцип деконструкции, то есть подрыва, снятия, переворачивания бинарных оппозиций. На мой взгляд, в русском постмодернизме органично сложился совершенно оригинальный принцип деконструкции, который я назвал взрывным компромиссом или паралогией, когда деконструкция бинарной оппозиции не создает нейтральные пространства, а сохраняет напряженное конфликтное взаимоотношение между вовлеченными категориями или символами, так что неразрешимый конфликт как бы стабилизируется в своей неразрешимости — это и есть русская деконструкция. В качестве примера можно вспомнить, как разыгрывается конфликт между верой в Бога и разочарованием в Боге в поэме «Москва — Петушки». Я доказываю в своей книге, что четыре убийцы Венички — это манифестация Бога, это хайот, ангел, которого описывает Иезикииль и который предвещает явление Всевышнего. Так что в моей интерпретации Бог убивает Веничку, пытавшегося его найти.
Я доказываю в своей книге, что четыре убийцы Венички — это манифестация Бога, это хайот, ангел, которого описывает Иезикииль и который предвещает явление Всевышнего. Так что в моей интерпретации Бог убивает Веничку, пытавшегося его найти.
С этой же неразрешимостью постоянно работает Сорокин, который создает некоторую псевдометафизику: псевдо, потому что он разрушает любую оппозицию и любой основанный на ней авторитетный дискурс, а метафизику, потому что сам этот процесс разрушения Сорокин изображает как нечто вечно-русское. Неразрешимость конфликтов придает русскому постмодернизму трагическое звучание. Более того, думаю, что именно благодаря этому качеству, постмодернистская эстетика остается достаточно подвижной для того, чтобы вбирать в себя все новые и новые феномены — от драмы до нон-фикшн.
Книга толстая, там обговариваются разные аспекты этого культурного движения, в ней я выхожу на то, что называют новым документализмом, пишу и о том, как постмодернизм влияет на современную популярную культуру. Сегодня, через десять лет, могу сказать, что кое-что я угадал верно — посмотрите, например, главу про «пост-соц»: то, что я называю этим неблагозвучным словом, стало сегодня (после 2014-го) российским культурным мейнстримом.
Кто ваш любимый писатель из постмодернистских авторов? Пригов?
Сейчас да. И Сорокин. Только что вместе с Евгением Добренко и Ильей Калининым мы выпустили в издательстве НЛО сборник статей о Сорокине «„Это только буквы на бумаге”. Владимир Сорокин: после литературы»; на мой взгляд, он получился очень интересным — лучшее доказательство значительности нашего героя. Конечно, есть авторы, за которыми я слежу с большим азартом и стараюсь не пропускать ничего из их сочинений. Так, я читал все, что писал Володя Шаров, и не только потому, что я с ним дружил, но и прежде всего потому, что считал его одним из самых оригинальных русских романистов. Его смерть для меня — страшный удар. Только что я был увлечен последним сборником рассказов Сорокина и одновременно книгой Марии Степановой «Памяти памяти», а также последним романом Александра Архангельского «Бюро проверки» — на меня все они (конечно, каждый по-своему) произвели сильное впечатление, но я не могу себе представить статью, в котором эти тексты можно было бы свести к какому-то общему знаменателю. Или же недавно я с огромным удовольствием перечитывал рассказы Валерия Вотрина, которого считаю недооцененным, но блестящим писателем. Вообще рассказ — или, точнее, короткая проза — сейчас переживает очень хорошее время. По-видимому, это компенсация за слабость романа. Кроме Вотрина, можно вспомнить еще таких замечательных рассказчиков, как Николай Байтов, Линор Горалик, Марианна Гейде, Елена Долгопят, Николай Кононов, Александр Иличевский, Денис Осокин, Павел Пепперштейн, Сергей Солоух, Михаил Шишкин, Евгений Шкловский, покойная Маргарита Хемлин. Стараюсь не пропускать то, что пишут в стихах и прозе мои любимые поэты — Полина Барскова, Станислав Львовский, Маша Степанова, Елена Фанайлова. Читаю много всего, какие-то тексты меня радуют или поражают, какие-то огорчают и злят, но у меня нет одного любимого писателя, с которым я готов всю жизнь прожить, перечитывая его или ее произведения. То же самое относится и к классике. Когда слишком плотно привязан к текущему литературному процессу, все эмоциональные зависимости чреваты разочарованием. Исключений слишком мало. Осторожность становится привычкой.
Завершено ли нлошное собрание сочинений Пригова, над которым вы работали?
Это очень масштабный проект, в котором участвовали многие, и прежде всего издательство НЛО во главе с Ириной Прохоровой. С одной стороны, мы (ура!) его закончили: только что на КРЯККе были представлены два последних тома из пятитомника — «Места» и «Мысли». С другой, Ирина говорит, что у этого проекта будет продолжение. В центр каждого из вышедших томов, кроме последнего, помещен один из романов Пригова, вокруг которого составители выстраивают тематическую композицию тома. В «Монадах» это была «Катя Китайская», в «Москве» — «Живите в Москве», в «Монстрах» — «Ренат и Дракон», в «Местах» — «Только моя Япония». Сначала мы не планировали это, но так вышло, что в каждый том вошли тексты разных жанров: и стихи, и проза, и пьесы, и эссеистика. Так, в «Места», помимо текстов, связанных со всякого рода культурной и символической географией, вошло самое полное собрание пьес Пригова. Я вообще считаю, что это очень важная часть его наследия, которая еще в полной мере не оценена. Надеюсь, что после выхода этого тома коллеги увидят, что в лице Пригова проглядели очень крупного абсурдистского драматурга. Пятый том, может быть, самый важный, такой финальный аккорд. В него мы с Ильей Кукулиным включили приговские статьи, манифесты, рассуждения о культуре, друзьях, изобразительном искусстве, то есть это его критика в широком смысле слова. Многие тексты в этом томе никогда не публиковались, они извлечены из архива. Надеюсь, что и этот том откроет Пригова, которого мы еще не знали. Конечно, многие слышали его выступления, брали у него интервью или читали их. Пригов был известен тем, что он всегда был готов рассуждать о типологии современной культуры, о том, какие процессы в ней происходят и так далее. Но когда это все собрано под одной обложкой, вы начинаете видеть, что он очень серьезный эстетик, мыслитель на темы культуры и культурных логик — более того, становится понятно, что это и есть его первичное занятие. Пригов первым делом изучал, как устроена культура, как она развивается, и уже из этого осмысления выстраивал свои художнические стратегии. Таких писателей у нас еще не было, это совершенно новый тип культурного сознания. В этом смысле я полагаю, что с Приговым разговор далеко не закончен, еще будет много обсуждений на эту тему. Слава богу, усилиями НЛО и Надежды Георгиевны Буровой-Приговой проходят самые разные чтения и конференции, посвященные Пригову. Он везде. Странно это говорить про человека, который умер одиннадцать лет тому назад.
Еще вы когда-то участвовали в подготовке книги «Веселые человечки. Культурные герои советского детства» — расскажите, пожалуйста, о ее концепции и истории.
У этой книги очень приятная и удивительная для меня история. На одной из ежегодных американских конференций славистов стоял я у стенда НЛО, болтая с Ильей Кукулиным и Машей Майофис. По ходу разговора возникла идея сделать сборник о главных героях советского детства. Мы тут же придумали критерии для отбора наших персонажей: не все подряд, а только мультимедийные, то есть такие, которые существовали не только в литературе, но и, например, в фильмах или мультфильмах, настольных играх и игрушках. Не сходя с места, мы стали останавливать проходящих мимо коллег (тоже, надо сказать, не всех подряд) и спрашивать о возможном вкладе в будущий сборник. Этими, мягко говоря, разнузданными методами мы довольно быстро собрали авторский коллектив. Казалось бы, начатая таким образом затея обречена на провал. Оказалось, наоборот! Поверите ли, но это первый и последний такой случай в моей практике: конференция была в ноябре, а в ноябре следующего года у нас уже была в руках книга, выпущенная все тем же НЛО. Все авторы написали качественно и в срок, это была невероятно живая работа, никого не приходилось торопить, надоедать и занудничать — все писали с редкой охотой.
Это был интересный опыт. Интересный тем, что авторами оказались в основном люди одного поколения — мы все время пытались научно оформить впечатления своего детства, почему эти тексты так или иначе повлияли на нас. Был какой-то страннейший феномен, связанный с детской культурой 1970–1980-х годов: несмотря на достаточно затхлый общий фон, детская культура была очень яркой. Это было не потому, что на безрыбье все, что ни подсунешь, будет восприниматься на ура, — там действительно была масса великолепных вещей. Мы и сегодня видим, что герои 1970-х годов остались базовым культурным фоном и сегодня: их показывают в рекламах, песни из мультфильмов 1970-х стали новым фольклором и так далее. Надо разбираться с тем, в чем состоит смысл этой субкультуры, и в «Веселых человечках» мы только начали этот процесс. Для меня лично смысл этой книги во многом прояснился, только когда я читал весь корпус текстов: я неожиданно понял, что в советской детской культуре преобладают трикстеры, несмотря на ее, казалось бы, героический пафос и морализм. Поэтому я могу честно сказать, что мои последующие занятия трикстерами во многом были стимулированы именно «Веселыми человечками».
А почему так сложилось?
Об этом у меня есть цикл работ, в том числе и книга на английском, которая вышла в 2011 году в бостонском издательстве Academic Studies Press (Charms of the Cynical Reason) — я все никак не закончу русскую версию этой книги. Если говорить о детской литературе и культуре, именно трикстеры создавали пространство игры и свободы — то, чем живет детская литература. Трикстерство могло проявляться в стиле, как у Чуковского или Хармса, но чаще — в созданном персонаже. Например, в Швеции Карлсон воспринимается как своего рода Тартюф, который все время подставляет бедного Малыша, а в советской культуре он горячо любим (об этом, кстати, Маша Майофис написала прекрасную статью для нашего сборника). Кстати, поэтому любимыми персонажами всех детских фильмов и мультфильмов были злодеи — которые чаще всего были трикстерами. Лучшие песни пели не Буратино, а Лиса Алиса и Кот Базилио, не Доктор Айболит, а Бармалей.
Ну а если говорить о советских трикстерах вообще, то это были персонажи, которые переводили вездесущий советский цинизм в артистическое измерение, тем самым выгораживая некое нейтральное пространство между сопротивлением и конформизмом. Они, эти персонажи, были воплощением свободы, обретаемой изнутри обстоятельств времени. Эволюция советского трикстера — от Хулио Хуренито, Бени Крика и Ивана Бабичева через великолепного Остапа к трагикомическим Веничке Ерофеева, героям Алешковского, Искандера, Вампилова, Шукшина, Горина — точно маркирует эволюцию альтернативной, несоветской модерности. Тут много интересных вопросов — например, о том, как трикстер адаптируется культурой соцреализма: с одной стороны, явные трикстерские черты есть у таких звезд соцреализма, как Стрелка из «Волги-Волги», Василий Теркин или Дед Щукарь. С другой, в соцреализме происходит и методичная демонизация трикстера в образах нэпмана, еврея, вообще врага (особенно экономического). Отдельно нужно говорить о трикстерстве как о жизнетворческой модели — как у Хармса, Раневской, Глазкова, Синявского, многих других. Особый вопрос — роль трикстерства в культуре андеграунда, в диапазоне от программного Пригова до спонтанного Кондратова. Ну и, конечно, страшно важен вопрос о трансформациях этого героя в постсоветскую эпоху. Тут и Пелевин, и Быков («Остромов»), и совриск, и политический перформанс («Синие носы», Pussy Riot), и Жириновский, и персонажи клипов Шнура. Надеюсь, обо всем этом я еще напишу в новой книге, которая, как у меня уже бывало, растет на хвосте у, казалось бы, давно законченного проекта.
Как можно строить здания после Освенцима — Strelka Mag
Рецензия на новую книгу издательства Strelka Press «Десять канонических зданий, 1950–2000» Питера Айзенмана — разрушительный коллаж из архитектурных проектов послевоенной Европы.
Обложка книги / фото: Институт «Стрелка»
Питер Айзенман — один из основоположников архитектурного деконструктивизма, основатель Института архитектуры и градостроительных исследований (1967). Всемирно известный архитектор и педагог, автор мемориала жертвам холокоста в Берлине, он до 1980 года занимался теоретическими изысканиями и только в 48 лет открыл свою мастерскую. Его парадоксальный метод — критика архитектурных принципов Ле Корбюзье и всего модернистского канона с помощью литературно-философских идей постмодернизма. В начале 2000-х годов Айзенман четыре года вёл семинары в школе архитектуры Принстонского университета, в ходе которых и возникла идея создания другого, послевоенного канона архитектурных проектов.
«Десять канонических зданий, 1950–2000» — написанный в 2008 году некролог довоенному модерну и гимн постмодернизму, под знаменем которого и предстояло развиваться экспериментальной архитектуре второй половины XX века. Книгу, составленную из описаний, чертежей и фотографий архитектурных проектов и зданий, невозможно читать без учёта визуального материала, обильно иллюстрирующего критический посыл Айзенмана, и теории постмодернизма, которая повлияла не только на язык исследования, но и на его структуру, метод, аргументацию, стиль и выводы. Даже выбор десяти зданий на первый взгляд кажется случайным: не самые известные, реализованные и нереализованные проекты таких архитекторов послевоенной Европы, как Вентури, Росси, Стирлинг или Колхас.
Роберт Вентури, Дом Ванны Вентури / фото: wikipedia.org
Эти здания словно завалились в пространственно-временную складку между достижениями конструктивизма, модернизма и деконструктивизма (музей Гуггенхайма в Бильбао). «Складка» — понятие столь важное для Айзенмана, глубже всего разработано в работах Жиля Делеза. Её можно описать как одну из характеристик деконструктивистских зданий, сочетание процесса и результата в какой-либо части, сгибе здания или во всём его объёме и конструкции. Это сочетание двух сил или движений формы уходит своими корнями в культуру барокко и открыто для интерпретаций. Многие пассажи Айзенмана напоминают манифесты и рассуждения, которые возникли в западной культуре после студенческих волнений 1968 года, например «О грамматологии» Жака Деррида и «Общество спектакля» Ги Дебора.
Визуальная часть книги, чертежи и фотографии описываемых зданий, перестаёт быть просто иллюстративным материалом и становится в этом издании полноценным этапом чтения, без которого понять мысль и логику автора представляется затруднительным для несведущего в предмете читателя. Впрочем, детальное изучение чертежей, схем и снимков можно рассматривать как отдельное визуальное высказывание Айзенмана, который и в своих архитектурных проектах, и в текстах следовал принципу: меньше комфорта, больше испытаний и критики.
Атака на довоенную, модернистскую архитектуру происходит с помощью тех понятий, которые знакомы читателям постмодернистской литературы, — фрагментация, очертания, разъединение. Автор отмечает, что «очертания — не нарративный приём, помогающий выявить форму или фигуру, он может существовать отдельно от какой-либо формы или фигуры; это разъединение — не просто линия, это может быть, например, тёмный край падающей тени. Обращая наше внимание на очертания в архитектуре, Моретти предлагает считать их маркером неразрешимых отношений и делает пространство объектом „пристального чтения“».
Пристальное чтение для Айзенмана — обязательная часть разговора об архитектуре современности, которая превращается в объёмный гипертекст. В ходе анализа десяти послевоенных проектов архитектор методично критикует манифесты или постулаты модернизма, особое внимание уделяя разносу пяти принципов Ле Корбюзье и основополагающего отношения целого и части: «Принято считать, что любой дом является чем-то целостным. Дом Фарнсуорт — блестящая демонстрация обратного. Начиная от отдельного, преувеличенных размеров входного „портика“ и заканчивая вездесущими, хотя и с нарушениями, проявлениями симметрии, дом Фарнсуорт — одно из первых проявлений разрыва с классическим единством частей и целого в здании».
Людвиг Мис ван дер Роэ, дом Фарнсуорт / фото: wikipedia.org
Одна из позиций новой эпохи, постмодернизма, представлена в проекте Луиса Кана, который конструирует здание по диахроническому принципу, применяя категорию времени к изначально пространственному объекту: «В домах Адлера и Де Вора (1954–1955), в отличие от множества других его проектов, Кану удаётся создать то, что можно было бы назвать архитектурным текстом в диахроническом пространстве. Это происходит путём совмещения классического и модернистского пространства; тот факт, что ни одно из этих „времён“ не доминирует, вызывает смещение моментов или, иначе, разъединение, переживаемое в пространстве».
Время этого здания оставлено в неопределённом положении «между банями в Трентоне и Медицинским центром Ричардса». В данном случае главный интерес и загадка для зрителя — как и на что смотреть в пространстве с двумя временами. За видимым объединением исторических эпох скрывается и другая черта послевоенной архитектуры — разъединение, указание на трещину и критику самой возможности существования целого и единого здания.
Вслед за временем под ударом оказывается и представление о масштабе, взаимоотношении внутреннего и внешнего пространства здания: «Росси разработал стратегию в Галларатезе, где размер унифицированного квадратного окна соотносится скорее с масштабом площади снаружи, чем с комнатой внутри, для которой оно велико. Это искажение масштаба указывает на то, что комната может быть прочитана как принадлежащая к фасаду площади. Таким образом, плоскость фасада следует читать не как экстерьер здания, а как внешнее ограждение общественного пространства». При этом меняется и представление о сопутствующей, но не обязательной части окна, стекле: от пустоты и прозрачности в модерне до Инженерного корпуса Лестерского университета, в котором «стекло впервые превращается из пустоты в массу, другими словами, происходит переворот в понимании материальности стекла: от буквальной пустоты к концептуальному объёму».
В послевоенной архитектуре пустоты оказываются снаружи зданий, лакунами становятся сами общественные пространства, «высеченные из информационной массы». Для восприятия архитектуры здания как части тела города всё чаще требуется знание чертежа, схемы, вызывающей ощущения, часто превосходящие эмоции от вида реализованного проекта. Так, Айзенман в одном из риторических пассажей актуализирует чертёж как эстетический объект: «Производит ли архитектура кладбища Сан-Катальдо такое же впечатление, как и его чертёж?»
Альдо Росси, Кладбище Сан Катальдо / фото: Superstock/Vostock-photo
Пока экспериментальная архитектура находилась под влиянием постмодернизма, повседневный облик городов Америки приобретал модернистские черты, «Федеральное агентство по жилищному строительству (Federal Housing Authority), позволившее возвратившимся с войны солдатам покупать квартиры по низким ценам, финансировало строительство зданий, спроектированных на основе идей „Лучезарного города“ Ле Корбюзье». Впрочем, подводя итоги, Айзенман отмечает, что модернистские постройки своей случайностью и внеидеологичностью размывают городскую ткань и не становятся той силой, которая готова ответить на урбанистические вызовы современности, хотя эту критику можно с той же лёгкостью обрушить и на проекты, о которых идёт речь в этой книге.
В названии своего исследования автор оставляет для читателя ловушку: слово «канонинонические», казалось бы, воспринимается как определённый перечень, принятый историками культуры для описания архитектуры послевоенной Европы. Но после чтения книги становится ясно, что перед нами личный канон Айзенмана: те здания, в конструкции или облике которых архитектор заметил критическое отношение к модернизму или на уровне изменения функции детали, или в форме и цели всего архитектурного проекта. Как теоретик, воспитанный в русле постмодернизма, Айзенман и сам предлагает лишь одну, необязательную версию канона, который мог получиться иным.
Вследствие волюнтаристской природы «Десять канонических зданий, 1950–2000» стоит воспринимать не как учебное пособие по истории архитектуры, а скорее как вызов успокоившемуся жителю послевоенной Европы, напоминанием об окружающей нас изменчивости и неопределённости как новой норме, пронизывающей, возможно, даже ту дверную ручку из IKEA, которую мы поворачиваем каждый день в тщетной надежде увидеть за дверью мир, который оставили там вчера.
Гузель Яхина. «Дети мои». Большой русский постмодернизм
Текст: Наталия Курчатова
Фото предоставлены Гузель Яхиной
Очевидно, что важнейшим искусством в современной русской литературе является искусство построения отношений.
В этом смысле случай Гузель Яхиной действительно вопиющ — не москвичка, даже не петербурженка, уроженка Казани с рекламно-киношным бэкграундом, видимо, не принадлежащая ни к одному из нынешних литературных сообществ — но первая же публикация в самой влиятельной редакции крупнейшего издательства страны, развернутая по всем правилам рекламная кампания — и грандиозный премиальный успех. Но помимо того, что дебютный роман «Зулейха открывает глаза» оказывается отмечен двумя весомыми профессиональными премиями: «Большой книгой» и «Ясной Поляной» — он полюбился широкому читателю. И если премии многие собратья по перу склонны объяснять издательским лобби, то читателей не подделаешь, как подписи, — они либо есть, либо нет. Один из моих добрых знакомых, писатель и человек редкой порядочности, бескорыстия и следующей из них объективности, как-то заметил в таком примерно духе: когда вы называете Яхину «издательским проектом», мне очевидно, что вы ни разу не видели толп читательниц на ее встречах… да, это преимущественно успех у женщин, но это несомненный успех — тем более что и читают в России в основном женщины.
Впрочем, «издательский проект», или «продюсерская литература», — феномен давно известный на Западе, а у нас представленный пока единичными историями — ничуть не противоречит успеху у широких народных масс; более того, именно на этот результат он и ориентирован.
Горькая женская судьбинушка в эпоху большого перелома, с национальным татарским колоритом, была в центре первого романа Яхиной про Зулейху — сейчас он экранизируется с Чулпан Хаматовой в главной роли. Я ловлю себя на иронии — но с другой-то стороны непонятно, почему в стране с большинством женщин, во-первых, и большинством женщин читающих — во-вторых, подобная тема должна восприниматься на манер дамского вышивания. Конечно же, не должна. Другое дело, что
трафаретная сюжетная конструкция «Зулейхи», которая будто бы держит читателя (читательницу) немного за дурака, вкупе с языком, который при каждой попытке уйти от стертых конструкций преподносит очередную нелепость, — все это естественным образом отторгало искушенного читателя.
Этот почти неизбежный порок сценарной поденщины Яхиной в первом романе преодолеть не удалось. Второй роман писательницы самим названием уходит от экзотической частности к высокому обобщению. Несмотря на то, что в центре романа — судьбы уже не второго по численности в России татарского народа, но этнического меньшинства — поволжских немцев. Видно, это та капля, в которой Яхина собирается отразить целый мир.
«Дети мои…» — так обратилась Екатерина Великая к немецким переселенцам, но заявка здесь, конечно же, гораздо масштабнее. На эпос, ну или как минимум на большой русский роман. Я не считаю подобный замах за изначальный недостаток, скорее напротив — но его еще нужно оправдать.
Центральный персонаж романа — Яков Иванович Бах, шульмейстер (учитель) и сказочник. Яков Иванович живет в Гнадентале (это одна из немецких колоний в Нижнем Поволжье) и принадлежит к любимому Яхиной типу внешне слабых, но на поверку надежных героев-мужчин. Все жители Гнаденталя и окрестностей носят прославленные немецкие фамилии, помимо Баха это Вагнер, Гендель, Белль. Таким образом нас сразу помещают в пространство то ли эпоса, то ли мифа, то ли сказки, то ли всего попеременно. Из сказки про деву-узницу братьев Гримм возникает и возлюбленная Баха — фройляйн Клара Гримм, учить которую в преддверии замужества в рейхе (еще не третьем!), куда Гриммы намерены уехать, нанимает Баха ее отец, владелец дальнего хутора на правом, гористом берегу Волги, среди сада, возделываемого беглыми от закона киргиз-кайсаками.
Бах учит Клару из-за ширмы, которой разделил их суровый отец, и все время менторства слышит только пленительный девичий голос. Драматичное воссоединение влюбленных падает на революционные годы, которые кровавым колесом катятся вдоль Волги или же шлепают по ней пароходными колесами Волжско-Каспийской флотилии. Правда, Клара и Бах на своем лесном хуторе этого практически не замечают; все это время пара тщится зачать ребенка. Их бесплодные усилия неожиданно разрешаются вторжением на хутор трех отморозков, которые в соответствии с очередным штампом — на этот раз литературным — надругаются над Кларой, и чистая жена понесет.
Как ни странно, в первой половине романа не так уж много параллелей с русским текстом Гражданской войны — вспоминается разве что «Тихий Дон», остальные явные источники вдохновения (кроме сказок) — «Унесенные ветром» и, внезапно, роман Евгения Водолазкина «Лавр», иные коллизии которого повторяются у Яхиной почти буквально. Удивительно, но почти нет следов влияния Пильняка, которое в данном случае было бы вполне уместным.
Уже второй по счету роман-пазл, правда, на сей раз исполненный куда тоньше и как-то выше, неординарнее «Зулейхи», навел меня на немудреную мысль. Яхина, как человек не просто одного со мной поколения, но даже одного года рождения, не могла не быть хотя бы слегка укушена постмодернизмом.
Отсюда, а не только из кино — бесконечные вариации известного как метод. Сам по себе метод не хуже и не лучше других, единственная в таком случае претензия — подобная техника предполагает то, чего у Яхиной нет органически: чувства дистанции по отношению к материалу и проистекающего из нее остроумия. О юморе даже говорить не буду, Яхина — писательница, которая, кажется, не смеется никогда.
Ведь постмодернисткий способ организации текста немыслим без игрового начала, без парадоксальных стыков, которые и привносят в него оригинальность. Здесь же текст течет словно любимая нами Волга — неспешно, местами просвечивая. При этом, поскольку это роман не прожитый и даже, по большей части, не воображенный, — хотя именно воображенные части из лучших там, у автора определенно есть дар визионера, — а именно сконструированный, то конструкция эта, в отсутствие полевого материала, парадоксов, смехового начала, всех этих бегающих как сумасшедшие и принадлежащих Императору зверей, обладает в итоге одновременно чертами громоздкости и пустоты.
«Дети мои» — это новый большой русский роман сродни аэроплану Можайского, который пролетает несколько метров и грохается. Причем делает это несколько раз на протяжении без малого пятисот страниц.
Я говорю это с грустью, потому что за время чтения начала испытывать к автору своего рода сочувствие — большее, чем к ее типическим героям, из которых улыбку и беспокойство вызвал разве что беспризорник Васька. При этом надо признать серьезный профессиональный прогресс, который очень скоро может заставить говорить о Яхиной не только как о любимице фортуны и широких народных масс.
Во-первых, за всего несколько лет после «Зулейхи» у писательницы произошел серьезный прогресс в смысле авторского языка, он не то чтобы удивителен и неповторим, но местами очень хорош, и не только в смысле отсутствия нелепостей — читая довольно критично, я обнаружила всего две: «бугры ложбин между мышцами» и хутор, который живет охотой, рыбалкой, а также натуральным хозяйством, — но и в смысле музыкальной интонации прозы.
Во-вторых, в «Детях» Яхина оказалась способна показать эпоху с фантазийной и одновременно локально-частной, человеческой точки зрения — тут и трагедия немецкого коммуниста и мечтателя Гофмана с телом гнома и нежным девическим лицом, и драма изобретателя Мамина, создавшего первый советский мини-трактор серии «Карлик», позже снятый с производства как предназначенный для «частнособственнического» хозяйства. В таких осколочках, по-настоящему зеркальных, кошмар эпохи, обернувшейся от человека — к массе, индустрии, и да, к эпосу — явлен гораздо тоньше, чем в «сталинских» эпизодах, которые своей лапидарностью напоминают притчи и уж точно ничего не могут прибавить к тираноборческому тексту русской литературы, как к нему ни относись.
В-третьих — и это следует из предыдущего, — у Яхиной, кажется, есть редкое в современной русской литературе здоровое качество — тихая любовь к жизни, земле, к людям которые ее населяют; думается, за это, а еще за старые сказки читатели прощают ей отсутствие куража — того самого, речь о котором идет в сцене со Сталиным и бильярдом, что оканчивается разбитым носом тренера: вот тебе и мнение автора про этот самый кураж. Ну а история недолгого литературного признания сказочника Баха, которая явно несет что-то личное, будет близка и понятна каждому сочинителю.
Недотягивая, пожалуй, до заявленной планки в глазах компетентного читателя, которому роман не способен сообщить принципиально нового или поразить свежестью исполнения,
роман «Дети мои» все-таки выполняет важную психотерапевтическую функцию для своей аудитории — взяв сложную и трагическую тему, автор не спекулирует на ней, а делится с читателем болью, радостью, а также обыденной мудростью вроде: все пройдет, а яблони надо белить каждый год, детей надо вырастить, а что касается великой реки, то однажды она пронесет мимо и врагов, и друзей, затем — и нас.
И это уже довольно много.
о метамодерне в академической музыке
«Вот закончится постмодерн — тогда и заживем» — этот интернет-мем казался смешным, когда верилось, что постмодерн в силу самой своей природы не закончится никогда. Но сегодня это уже не так смешно.
О метамодернизме как особом состоянии культуры заговорили после появления манифеста голландских философов Тимотеуса Вермюлена и Робина ван дер Аккера (2010) [18]; более известным, однако, стал появившийся позже манифест британского художника Люка Тёрнера (2011) [17].
Сегодня термины «метамодернизм» и «метамодерн» все чаще применяются в самых разных областях культуры — в антропологии, архитектуре [2], психологии [4; 5; 6], литературе, философии, неакадемической музыке.
Несмотря на наличие манифестов, речь идет не о каком-то частном художественном направлении, которое нуждается в самодекларировании. В этом смысле подлинным манифестом метамодернизма — по крайней мере, конгениальной ему формой манифестирования — можно считать посвященный метамодернизму постоянно растущий сайт, который стал чем-то вроде обновляющегося в реальном времени эстетического высказывания [19].
Метамодернизм не является художественным направлением (как импрессионизм, экспрессионизм, неоклассицизм), но представляет собой глобальную ментальную парадигму, пришедшую на смену постмодернизму, — поэтому также встречается термин «постпостмодернизм», не вполне, однако, отражающий смысл явления.
Точную временну́ю границу начала эпохи метамодерна, как и в случае с постмодернизмом, установить невозможно: часто говорят о начале 1990-х годов [8], в то же время четвертая промышленная революция, в пространстве которой и возник метамодернизм, началась в 2010-е. Поэтому правильнее не ставить определенной точки, а говорить о постепенном зарождении и усилении метамодернистских тенденций в культуре последних двух десятилетий.
На положение метамодернизма в истории культуры можно смотреть с двух точек зрения.
Первая из них представляет метамодернизм как синтезирующий итог постмодернизма и модернизма, объединяя в себе все их взаимные оппозиции, — таким образом эти явления выстраиваются в четкий ряд тезис — антитезис — синтез. На линии времени эта самодостаточная тройка, в свою очередь, оказывается противопоставленной всему домодернистскому искусству.
Вторая точка зрения представляет саму эпоху постмодерна как четвертую большую эпоху, следующую за Античностью, Средневековьем и Новым временем [13, 15], постмодернизм же — как первый этап этой эпохи. Тут уже получается, что метамодернизм становится второй (после постмодернизма) стадией эпохи постмодерна — то есть входит в нее как составная часть. Такой взгляд акцентирует единство информационного ландшафта эпохи постмодерна, следствиями которого выступили последовательно постмодернизм и метамодернизм, — и здесь уже постмодерн оказывается противопоставленным всему допостмодернистскому искусству.
Очевидно, что эти два способа рассмотрения метамодерна не противоречат друг другу, а создают единую объемную оптику, своей двойственностью как нельзя лучше отражающую характер самого явления. При первом взгляде логичнее пользоваться термином «метамодернизм», при втором — «метамодерн». В этой статье будем пользоваться последним, осознавая, что время для более точных терминологических дефиниций еще не пришло.
После постмодернизма
Внешней причиной появления метамодерна стало начало четвертой промышленной революции, внутренней — кризис постмодернизма.
Четвертая промышленная революция, принесшая «большие данные», виртуальную и дополненную реальность, 3D-печать, «интернет вещей» и роботизацию, по мнению теоретика и экономиста Клауса Шваба, «изменяет не только то, “что” и “как” мы делаем, но и то, “кем” мы являемся» [12, 11]. Она не только смещает политические, социальные и прочие границы, но и размывает самоидентификацию индивида. Огромные сети прямых взаимодействий производителей и потребителей какой-либо услуги заставляют радикальным образом пересмотреть традиционные представления о «профессионализме » и «специализации», что по-своему отражается в разных видах искусства.
Одним из важных для метамодерна следствий становится роботизация в производстве контента: так, К. Шваб утверждает, что к середине 2020-х годов бóльшая часть новостей и «журналистских» текстов будет генерироваться автоматически, с помощью роботов. От человека же будет требоваться не умение производить контент в какой-либо области знания, а ви́дение более высокого порядка, соединяющее рациональное и интуитивное: анализ больших систем, непрерывное прогнозирование и творчество в условиях постоянных изменений.
Еще важнее, что четвертая промышленная революция изменяет саму природу медиа. М. Маклюен в своей фундаментальной работе «Понимание медиа» [9] показал, как именно появление того или иного средства коммуникации изменяет не только характер современного искусства, но и сам тип мышления определенной эпохи. Но, пожалуй, никогда еще появление новых медиа не влияло на искусство с такой скоростью и столь фундаментально, как всеобщий тотальный — быстрый и доступный всюду — Интернет.
Влияние тотального Интернета проявляется в двух противоположных тенденциях: в снижении способности к восприятию любого контента и в то же время в непрерывном его производстве.
С одной стороны, еще Жан Бодрийяр доказал, что телевизионные новости притупляют восприятие и порождают всеобщую апатию [1]. В эпоху четвертой промышленной революции основным занятием становится непрерывный «скроллинг»: быстрое и практически бездумное пролистывание новостной ленты в какой-либо социальной сети, шире — скольжение по интернет-пространству. Таким образом тотальный Интернет — как еще более «холодное» медиа (термин Маклюена), чем телевидение, — еще больше способствует бодрийяровским апатии и «испарению смыслов».
С другой стороны, тотальный Интернет также порождает «общество художников», где каждый человек вне зависимости от своего образования и рода занятий создает огромное количество текстов — визуальных, вербальных, аудиальных (собирая собственный трек-лист). Непрерывно производя контент, каждый человек становится художником и все больше осмысляет реальность вокруг себя как художественную. Для музыки это означает радикальное изменение отношений между композитором и слушателем, поэтому еще одним принципиальным свойством искусства метамодерна становится то, что его, в принципе, может производить каждый.
Между этой меланхолией пролистывания новостной ленты и тотальным эстетическим высказыванием «общества художников» и рождается метамодерн — «новая уязвимость» — как ощущение невозможности что-то почувствовать и обостренное желание поделиться своим чувством одновременно.
Внутренняя причина метамодерна — кризис постмодернизма — связана с усталостью от тотальной иронии постмодернизма, от его непрерывного цитирования и невозможности метанарративов.
Постмодернизм был сформирован ощущениями посттравматической эпохи, связанной с информационной перенасыщенностью и неспособностью человека противостоять этому информационному потоку, проработкой и рефлексией этой травмы, — отсюда метафоры фантомной боли, «тела-без-органов», «феноменального тела», утраченной конечности и так далее. Метамодерн — это движения уже заросшей, восстановившейся «рукой», травма которой, однако, осталась внутри и навсегда изменила тип этого движения.
Если постмодернизм рефлексировал небывалое количество информации, то метамодерн рефлексирует уже невиданную до этого скорость ее распространения: метамодерн возникает не просто в эпоху Интернета, но в эпоху Интернета быстрого, доступного повсюду.
Метамодернизм не отрицает постмодернизм (как это часто бывает с соседствующими парадигмами), а полностью вбирает его в себя. Он как бы вырастает на почве, «удобренной» постмодернизмом, является его непосредственным следствием. Постмодернизм принес осознание невозможности производства нового текста — отсюда постструктуралистские концепции Деррида, Делёза и других. Метамодерн, продолжая осознавать эту невозможность, тем не менее новые тексты создает.
Метамодерн — это «цветок», выросший над «ризомой». О ризоме помнят только корни этого цветка, но для наслаждения его цветением осознание корней не обязательно. Реципиент эпохи метамодерна любуется простотой («цветком»), сознательно забывая о корнях («ризоме»): чтобы забыть, однако, нужно изначально знать, — так знание о постмодернизме органически включается в метамодерн.
Если рассматривать постмодернизм и метамодернизм как составляющие части постмодерна, можно выделить и то общее, что у них есть. Это:
• ощущение культуры как глобального супермаркета,
• рефлексия над информационной травмой,
•изначальная эмоциональная атрофия,
• невозможность серьезного восприятия какоголибо метанарратива.
Различия же между постмодернизмом и метамодернизмом простираются в следующих оппозициях:
|
ПОСТМОДЕРНИЗМ |
МЕТАМОДЕРНИЗМ |
|
цитирование |
присвоение |
|
все чужое |
все свое |
|
ирония |
постирония |
|
критика метанарративов |
реабилитация метанарративов |
|
сложные слова |
простые слова |
|
симбиоз массового и элитарного переживается как событие |
симбиоз массового и элитарного перестает быть событием |
|
невозможность авторского индивидуального высказывания переживается как событие («смерть автора») |
невозможность авторского индивидуального высказывания перестает быть событием |
|
«тело-без-органов» |
«тело-с-роботизированными-конечностями» |
|
постструктурализм |
новый холизм |
|
много и быстро |
мало и медленно |
|
интеллектуальный роман |
песня |
|
словесный гибрид Джойса («riverrun») |
иероглиф Введенского («река») |
|
отсутствие эмоции |
реабилитация эмоции |
|
всё и сразу: и ничто не переживается сполна |
только две противоположности, переживающиеся одновременно и полностью |
|
симуляция |
«подлинность» |
|
скольжение по поверхности |
колебание по вертикали между двумя противоположностями |
|
нейтрально |
горячо и холодно одновременно |
|
ризома |
цветок |
Совершенно особым образом метамодерн функционирует в пространстве русской (позднесоветской / постсоветской / современной российской) культуры. Метамодернистские тенденции неожиданным образом совпали с культурно-философской «решеткой» русской культуры: в частности, холизмом русской философии как синтезом рационального и интуитивного, внутреннего и внешнего, философии и веры. В свою очередь, советская реальность и соцреализм с его фиксацией на «языке» (Борис Гройс) породили важнейший для культуры ХХ века сверхкод, ставший одним из главных поводов для метамодернистской рефлексии [10].
Более того, можно сказать, что музыкальный метамодерн зародился именно в Советском Союзе — в направлении «новая простота» (Николай Корндорф, Александр Рабинович, Эдуард Артемьев), где уже присутствовали важнейшие его свойства: постирония, возвращение аффекта, преодоление постмодернизма. Такова, например, «Музыка печальная, порой трагическая» (1976) А. Рабиновича с ее романтическими и барочными формулами, длящимся меланхолическим аффектом, холодной сентиментальностью. «Тихие песни» Валентина Сильвестрова (1977) с их беспрецедентной медленностью, стилистическим обобщением и одновременно отстраненной и «задушевной» интонацией можно считать образцом музыки метамодерна.
Музыкальный метамодерн
У музыкального метамодерна есть и собственные музыкальные предпосылки: усталость от сложных, зачастую завязанных на математических методах композиторских техник, а также от идеи поиска сложного «саунда», во многом обнулившейся с тотальной компьютеризацией.
Музыкальный генезис метамодерна («протометамодерн») включает:
• Эрика Сати (1866–1925) с его отстраненной сентиментальностью, с одной стороны, и особой природой юмора — с другой. «Гимнопедия 1» являет собой тип отстраненной сентиментальности, внеположной сентиментальности романтизма. Эта внешне простая, романтическая музыка — при этом полная необъяснимой странности — не является ни «законсервированным» романтизмом, ни импрессионизмом, против которого Сати непрерывно бунтует, ни «портретированием» аффекта какой-либо ушедшей эпохи — как это будет у Стравинского. Современникам музыкальные опыты Сати казались пародиями и тонкими шутками, Джону Кейджу — радикальными обнуляющими жестами; в свете метамодерна же они выглядят «тихим бунтом», расшатывающим границу между профессионализмом и дилетантизмом и, шире, основы композиторской профессии как таковой.
• Сложные и как будто не ко времени пришедшиеся феномены типа Николая Метнера (1880–1951). Неоднократно выражавший свое неприятие современной ему авангардной музыки, Метнер в свое время казался ретроградом, державшимся за устаревшие модели, однако его музыкальные тексты внезапно обретают актуальность сегодня. «Забытые мотивы» — подчеркнуто непритязательная пьеса, в которой повторяемость сентиментального мотива обеспечивает его отстранение, причем «припоминается» не что-то конкретное, а как бы никогда не бывшее (в то же время смутно знакомое абсолютно всем). Наконец, общеупотребимые, «известные всем» интонации этой музыки, простота, доходящая до декларативности, делают ее практически метамодернистским произведением.
• Минимализм, родившийся в 60-е годы как альтернатива серийной музыке и, шире, техникоцентристских «музык» послевоенного авангарда, не только не утрачивает своего значения сегодня, но, кажется, выходит на новый уровень влияния. Именно минимализм в свое время срифмовал восточную ритуальную практику повторения с повторяемостью паттернов повседневной жизни общества потребления: с тиражируемостью и самовоспроизводством, с меланхолией посетителя супермаркета.
В эпоху четвертой промышленной революции минимализм становится основной стратегией, противостоящей информационной травме и одновременно рефлексирующей ее: он резонирует с эффектом холодного скроллинга новостной ленты. Именно поэтому минимализм сегодня невероятно актуализируется — как в академической, так и в неакадемической музыке, а также в многочисленных немузыкальных формах проявления. Главным интернет-жанром сегодня становится coub — короткое зацикленное видео, которое может легко сделать любой пользователь. В этом смысле минимализм — а точнее, репетитивную технику — можно считать главной композиторской техникой эпохи метамодерна.
С точки зрения метамодерна минимализм можно разделить на две волны. Первая включает творчество «отцов» минимализма — Райли, Райха, Ла Монте Янга и Гласса, а также их непосредственных продолжателей. Уже в это время в минимализме формируются многие ключевые для метамодерна принципы: возврат к тональности, переосмысление категорий массового и элитарного, «обнуление» автора за счет обращения к надличному, надавторскому, к архетипическим формулам, наконец, «дление» одного аффекта вместо нарративной драматургии и — в ряде параметров — доходящая до предела простота.
Однако в полном смысле к метамодерну можно отнести только произведения второй волны минимализма — те, в которых присутствует модус сентиментальности. Эта холодная, отстраненная сентиментальность метамодерна слышна в «Sweet air» Дэвида Лэнга и других сочинениях группы «Bang on a Can», в многочисленных опусах Симеона тен Хольта, музыке Владимира Мартынова. Именно эта сентиментальность «подключает» другие свойства метамодерна: постиронию (сегодня мы не в состоянии воспринимать сентиментальность со всей серьезностью), песенность (мелодии паттернов тен Хольта, в отличие от райховских, легко поются), простоту (не только мелодическую, но и эстетическую, так как происходит заигрывание с легкими музыкальными жанрами).
Таким образом, минимализм эпохи метамодерна от классического минимализма предшествующей эпохи отделяет своеобразная граница аффекта: метамодерн начинается там, где на смену праздничной или, наоборот, драматической ударности приходит мягкость и особая отстраненная сентиментальность.
Элементы метамодерна можно увидеть и в других феноменах. Подобно тому как постмодернизм ХХ века дает возможность разглядеть «постмодернистские» жесты в произведениях искусства прошлых веков (говорят о «постмодернизме» джойсовского «Улисса», «Гесперийских речений» или романа Франсуа Рабле), многие музыкальные произведения можно рассматривать в свете метамодерна: например, отдельные багатели Бетховена, миниатюры Шуберта и Шумана, «Песни без слов» Мендельсона или «Детский альбом» Чайковского. Чаще всего модус метамодерна можно заметить в инструментальных и вокальных миниатюрах, заигрывающих с предельной простотой или «детскостью» либо же с разными типами иронии. Естественно, такие построения ни в коей мере не делают Шуберта и Чайковского представителями метамодерна, однако метамодерн рождает собственную оптику и становится не только состоянием культуры определенной эпохи, но и способом анализа самых разных явлений. Более того, сегодня можно представить себе «метамодернистское» исполнительство, которое, выявляя подчеркнутую простоту и «незначительность», способно погрузить в модус метамодерна целый ряд музыкальных произведений прошлых веков.
Итак, основные свойства метамодерна — это постирония, возвращение аффекта, конец цитатности, актуализация метанарративов, размывание границы между профессионализмом и дилетантизмом, длящаяся амбивалентная «эмоция». Рассмотрим, как эти понятия реализуются в музыке.
Постирония
Постирония — своеобразный апгрейд постмодернистской иронии — наиболее фундаментальное свойство метамодерна.
Постиронию можно определить как двойной переворот высказывания: прямой месседж сначала иронически переворачивается, а потом как будто переворачивается еще раз, обретая новую прямоту. Если ироническое высказывание притворяется, что оно — правда (и тем самым опровергает высказанное), то постироническое притворяется, что оно — неправда (и тем самым высказанное подтверждает).
В постиронии ирония постмодерна преодолевается, но остается глубоко внутри как составная часть сложного высказывания: метамодерн устает от иронии постмодерна, но уже не может смотреть на мир без нее — поэтому ирония продолжает быть в него включена.
Теоретики говорят об осцилляции как важнейшем для метамодерна понятии — имея в виду смысловые колебания между прямым высказыванием и иронией. Однако привлечение понятия «колебание» представляется не совсем точным: в метамодерне прямое высказывание и ирония не сменяют друг друга, а сосуществуют в единстве.
В музыке постиронии легче всего проявиться в вокальных произведениях, где есть возможность смыслового «натяжения» между музыкой и текстом. В этом — одна из причин актуализации жанра песни в эпоху метамодерна; другая причина — в том, что именно в песне зачастую происходит радикальное сближение массового и элитарного при попытке выразить некий универсальный код.
Такова «Песня колхозника о Москве» Леонида Десятникова, метамодернистски воспроизводящая советский хит. В то время как постмодернистский жест предложил бы иронию над песней, постироническая метамодернистская транскрипция Десятникова открывает в ней новую красоту.
Как устроена «Песня колхозника»? Десятниковский жест — подобно жестам Стравинского периода неоклассицизма — интересен не тем, как много композитор изменил в советской песне, а тем, как мало он в ней изменил. В отличие от Стравинского, который менял в музыке Перголези гармонию, ритм, оркестровку, Десятников, наоборот, оставляет неизменными мелодию, гармонический план, текст: таков «неоклассицизм» эры постиронии.
Изменяемым пластом в «Песне» становится исполнительская манера певицы Ольги Дзусовой, остающейся за кадром фильма: «неправильное», «детское» пение со сбитым дыханием, берущимся посреди слова, и новой страшной прямотой. Это не что иное, как русское юродство, обращенное на этот раз не к пространству православной церкви, а к сакрализованному (по крайней мере, внутри «Песни колхозника») языковому пространству Soviet art.
«Песня колхозника о Москве» — знаковое произведение для постсоветского музыкального пространства: не только в эпохе метамодерна, но, наверное, и вообще в музыке последних десятилетий мало что может сравниться с ней в красоте и беспощадности. Написанная в 2000 году для фильма Александра Зельдовича с «иероглифическим» названием «Москва», эта музыка стала своего рода метаплакатом — многомерным манифестом, выражающим сверхсмыслы через простейшие архетипические языковые формулы.
Возвращение аффекта
Уставший от холодности постмодернизма и неспособности продуцировать и рефлексировать какое-либо переживание, метамодерн возвращает музыке аффект: длительно переживаемую статичную музыкальную эмоцию.
Это возвращение возникает как память об энергии прямого высказывания модернизма на новом витке спирали. Если модернизм заключал в себе фигуру бурения, взрывания поверхности, вертикали, создававшейся некой сверхидеей («бессознательное» Фрейда, поток сознания Джойса, мировая воля у предвосхищавшего модернизм Шопенгауэра), то постмодернизм представляет собой, наоборот, фигуру плоскости, поверхности, горизонтального сглаживания, тотальной уравнивающей иронии, внутри которой невозможно утверждение какой-либо универсальной сверхидеи. Метамодерн же, продолжая осознавать невозможность этой сверхидеи, начинает снова «серьезно играть» в нее — и энергия модернизма, возвращаясь на новом уровне, дает особый «метамодерный» аффект.
Основное свойство метамодерного аффекта — его амбивалентность: он не однозначен, как это было, например, с аффектами эпохи барокко, а объемен и включает в себя противоположности. Амбивалентность метамодерного аффекта, по мнению психологов метамодерна, проистекает в том числе из постоянного присутствия современного человека в Интернете, которое приводит к «способности рассматривать множество позиций одновременно, воспринимать противоположные идеи, и, как следствие, более целостно, нелинейно, воспринимать ряды событий и явлений» [5].
Любопытно, что метамодерный аффект при всей своей амбивалентности очень явственен и осязаем: музыка метамодерна отнюдь не «нейтральна». В этих одновременных амбивалентности и определенности — главный парадокс метамодерна, его осциллирующий нерв.
Другое свойство метамодерного музыкального аффекта — моментальность его возникновения: погружение в него происходит с первых же тактов. Четвертая промышленная революция — эпоха человека с посттравматическим сознанием, который не способен включаться в долгий рассказ, поэтому аффект должен быть определенным, должен возникать сразу и сохраняться надолго.
Во всех метамодерных «музыках» можно заметить этот возникающий моментально двойной аффект. Так, например, в «Песне колхозника о Москве» это что-то вроде переживания ужаса и красоты одновременно: советский «код», напрямую действующий через текст и мелодию, ощущается и как «устрашение» (за счет сложного многосоставного контекста, сопутствующего ему), и как агрессивно утверждающая себя «новая красота».
Основной аффективной парой в метамодерне можно считать меланхолию и эйфорию, переживаемые одновременно.
Меланхолия сама по себе — важнейший аффект эпохи метамодерна, не случайно в последние десятилетия она стала отчетливо проявляться как в художественном, так и в культурологическом пространстве [11; 14].
Меланхолия метамодерна — это в первую очередь меланхолия скроллинга, меланхолия, вызванная утеканием смыслов при пролистывании интернет-страниц. Бодрийяр пишет: «Меланхолия — неотъемлемая черта способа исчезновения смысла, испарения смысла в операциональных системах. И все мы погружены в меланхолию» [1, 212]. Такое испарение смыслов одновременно вызывает тоску по этим смыслам, тоску по большому высказыванию, метанарративу.
Эйфория рождается как обратная сторона меланхолии, необходимая в метамодерне противоположность. Кроме того, быстрый Интернет как уравнивающая всех «новая площадь» приводит к своего рода потлачу — празднику разбрасывания званий, регалий и компетенций, и этот потлач также порождает эйфорию: так, Владимир Мартынов говорит о конце времени композиторов как о «празднике».
Мерцание двойного аффекта меланхолия/эйфория слышно во всех метамодерных произведениях Валентина Сильвестрова, фортепианных опусах Симеона тен Хольта, музыке Леонида Десятникова — не случайно сам композитор сообщает о лежащей в основе его эстетики двойственности: «<…> мой любимый жанр — “трагически-шаловливая” вещица» [7].
Лев Выготский в «Психологии искусства» доказывает, что в искусстве форма, по шиллеровской максиме, «должна уничтожать содержание», и любое действенное художественное произведение представляет собой движение двух противоположных тенденций, которые все усиливаются и усиливаются и наконец схлопываются (аннигилируют) в финальном взрыве-разрядке [3, 326]. В метамодернистском произведении эти два противоположных плана постоянно сосуществуют в одновременности, не усиливаясь и не ослабляясь, а как бы мерцая, заставляя нас ощущать обе части бинарной оппозиции одновременно.
Метамодерные меланхолия и эйфория сходятся в особой «новой сентиментальности» метамодерна, наполненной ностальгией по небывшему и одновременно эйфорией желания обрести новый смысл, зачастую имеющий оттенок сакральности, — не случайно возникают такие понятия, как «сакральное пространство» Владимира Мартынова и сакральный минимализм Арво Пярта. В обоих этих (столь непохожих) случаях сакральное находится вне конфессиональных и даже собственно религиозных рамок, а обращается к вневременным и общечеловеческим чаяниям.
Возвращение аффекта в музыке стало одной из причин возвращения тональности, изначально осуществленного минимализмом, который, как уже было показано, также может быть рассмотрен в метамодернистских категориях. В случае, когда речь не идет о репетитивности, возвращаются и мелодия (чаще всего простая), и гомофонно-гармонический склад. К примеру, в «дометамодерном» минимализме очень часто можно было встретить нейтральную диатонику, которую невозможно отнести ни к мажору, ни к параллельному минору (как это происходит, например, в скрипичной и фортепианной «Фазах» Стива Райха). В «метамодерном» минимализме возвращается четко определенная ладовая окраска, и чаще всего это меланхолически-эйфорический минор: таковы фортепианные пьесы Симеона тен Хольта, «Child» Дэвида Лэнга, «Стена-сообщение» Владимира Мартынова.
Конец цитирования
Метамодерн преодолевает цитатность постмодерна: вместо непрерывного цитирования конкретных текстов метамодернист использует безымянные архетипические формулы. В постмодернистском искусстве, конечно, тоже встречалось цитирование не конкретного автора, а целого стиля, но постмодернист чаще всего соединяет это цитирование с иностилевыми фрагментами (в музыке такое может происходить как по горизонтали, так и по вертикали), а метамодернист непрерывно цитирует стиль, и этот стиль неизменен на протяжении всего произведения. В метамодернистском произведении ниоткуда не «выглядывает» автор — в отличие, к примеру, от неоклассицистских опусов Игоря Стравинского, в которых всегда видно, где Стравинский, а где объект «портретирования».
В этом смысле именно в метамодерне происходит настоящая смерть автора, бывшая основным «сюжетом» постмодернизма. Постмодернизм, провозгласивший смерть автора, был все же еще авторской агонией: так, например, в суперколлаже «Симфонии» Лучано Берио перед нами набор конкретных (пусть и не всегда легко опознаваемых) цитат, наложенных на отчетливо различимый малеровский текст. В музыке метамодерна ничего подобного мы не встретим, потому что, когда мы слушаем ее, у нас возникает ощущение, что, хотя в ней нет ничего «своего», в то же время нет в ней и никаких конкретных цитат.
Для постмодернизма было важно своеобразное возбуждение от «кражи» материала: например, произведение Юрия Красавина, полностью повторяющее «К Элизе» Бетховена, так и называется — «Кража». В постмодернизме идея авторства оказывалась несущей конструкцией. Автор и реципиент метамодерна уже абсолютно безразличны и к фигуре другого автора, и к авторству как таковому. Принадлежит ли материал кому-то конкретному, не принадлежит — ни для кого уже не важно, это не является темой для разговора: так «Стена-сообщение» Мартынова рефлексирует общеромантические музыкальные формулы, каждая из которых отсылает к огромному множеству текстов, но при этом ни к какому конкретному.
Если постмодернизм цитирует конкретного автора, то метамодерн работает со сверхсмыслами, с архетипическими структурами, с кодами культуры, реабилитируя критикуемые постмодерном метанарративы. Эта реабилитация происходит через их эстетизацию: к примеру, метамодернист может не верить в победу коммунизма, но способен использовать язык советского плаката в его прямоте и полноте. В этом виден особый смысловой объем метамодерного мышления («мышления о мышлении»): в метамодерне мы осознаем свое реагирование на тот или иной тип высказывания или код, однако, в отличие от постмодернизма, это не мешает нашему «прямому проживанию» этого кода.
Субъект постмодерна с точки зрения cultural studies — это наложение большого количества социокультурных конструктов: он несводим к какому-либо метанарративу, а значит, лишен целостности и многосоставен. Субъект метамодерна, осознавая невозможность полного подчинения метанарративу, тем не менее снова ощущает его красоту и пытается, преодолевая свою многосоставность и раздробленность, вернуться к его целостности.
Для метамодернистской психологии характерно «непротивопоставление поиска истины существованию веры (стремление к истине при руководстве верой)» [5]. В отличие от постмодернизма, который исходил из атеизма или игровой «веры во все сразу» (к примеру, во многих произведениях Лучано Берио, Карлхайнца Штокхаузена и авангардистов происходит параллельное цитирование языковых формул самых разных религий), метамодернизм с его «новой прямотой» высказывания возвращает возможность и «новой веры», поданной, впрочем, в том же осциллирующем ключе. В музыке в роли этой веры также может выступать любой другой стилевой метанарратив — фольклор, архаика или даже стихия русского классического романса. Так, в «Ночи в Галиции» Мартынова в роли метанарратива выступает русский фольклор, одновременно архаизированный и приближенный к эстетике русского футуризма, а tintinnabuli Арво Пярта определяет религиозный код.
Новый дилетантизм
Метамодерн возвращает музыке «новую простоту» — в смысле доступности для каждого при — одновременно — колоссальной ментальной сложности. На практике это выражается в радикальном упрощении языка: использовании простых оборотов, «принадлежащих всем» интонаций, детскости и дилетантизма в разных их проявлениях. И здесь возникает важная для метамодерна проблема поэтики незначительного. Она проявляется в разных, подчас никак не пересекающихся и даже противоречащих друг другу формах, таких как:
• использование тихих, медленных и интонационно усредненных тем в совокупности с подчеркнутым отсутствием какой-либо «композиторской работы»;
• «новый дилетантизм», полное стирание технической, интеллектуальной, ментальной границы между профессионализмом и дилетантизмом, элитарностью и массовостью, сложностью и простотой;
• как следствие, создание декларативно простых, как бы детских произведений со всей атрибутикой музыкальной «детскости» — только одноголосие, только скрипичный ключ; также музыкальное arte povera часто записывается подчеркнуто небрежно и от руки;
•бунт против самой профессии композитора, осознание невозможности создания совершенного опуса сегодня;
• нарочитое самоуничтожение композитора внутри пьесы — сознательный отход от демонстрации композиторских умений или демонстрация «неумений»;
• использование исполнителей-дилетантов — либо находящихся в начале творческого пути (маленьких детей, начинающих взрослых исполнителей), либо в принципе не имеющих отношения к музыке — и создание из этого определенного художественного жеста;
• обращение к предельно обобщенным интонациям, «принадлежащим всем» музыкальным лексемам;
• постепенное размывание границ между академическим и неакадемическим, а также профессиональным и дилетантским в концертной практике.
Рефлексия конца времени композитора-демиурга пронизывает музыкальное и литературное творчество Владимира Мартынова. Она же заметна в произведениях всех тех минималистов, которые работают не с микропаттернами — праэлементами музыкальной ткани, а с паттернами более протяженными и основанными на условно «банальном», «исчерпанном» материале.
Среди тех, кто и отказался от нарративной драматургии, и не пришел при этом к минимализму, выделяется немецкая группа композиторов «Wandelweiser», созданная Антуаном Бойгером и Буркхардом Шлотхауэром в 1992 году. В музыке этих авторов, сотканной из тихих растворяющихся звуков и предельных пауз между ними, заметна оппозиция драматургически развитому, насыщенному событиями опусу — опусу, в котором все оправданно, сложно и совершенно.
Эманации «незначительного» и «несовершенного» заметны в русской музыке последних лет.
Манифестационный характер носит проект композитора и пианиста Алексея Шмурака «Незначительная музыка» (2013) — прямой наследник меблировочной идеи Сати. Шмурак заказал 24 композиторам маленькие фортепианные пьесы, сформулировав задачу так: «Музицирование, лишенное значительности и акцентированной концертности. Тихая непритязательная малособытийная музыка для фортепиано», предназначенная для исполнения на «пианино и/или неконцертных кабинетных роялях».
Одна из пьес, вошедших в этот проект, — «Не торопись, Чепаев» Сергея Загния (2013). Ее «незначительность» проявилась уже в жанре: это не пьеса и не песня, точнее — недопьеса и недопесня.
Пример
1Пианист по умолчанию поет тихо, слова (написанные самим композитором) должны быть и слышны, и не слышны — скорее, это пение про себя: то ли шутливо, то ли всерьез, но тихо и лирично Сергей Загний призывает нас не торопиться. Здесь заметно следование традиции Эрика Сати, который часто сопровождал свои фортепианные пьесы текстами: странными, иногда лирическими, но при этом лишенными глубокомысленной загадочности и какой-либо символической нагрузки.
Другой пример поэтики незначительного в новой музыке — композиторская эпопея Кирилла Широкова (р. 1991) «everyday melodies» для любого подходящего инструмента или голоса. Это до крайности короткие одноголосные пьесы, которые можно наигрывать на любом инструменте или напевать, или то и другое одновременно, — слова «петь» и «играть» в этом случае кажутся слишком громкими. «Everyday melodies» стали для композитора долгоиграющим проектом — он пишет их уже несколько лет (начиная с 2011 года) и, похоже, не собирается останавливаться. Они неизменно записываются от руки, часто от руки нарисованы и нотные станы.
На важность визуального аспекта для композитора указывает то, что Широков регулярно выкладывает отсканированные ноты в социальные сети — на свои страницы в Facebook и Instagram, превращая это в игру, наблюдаемую в реальном времени. Помимо визуального претворения незначительности, здесь заметно еще постироническое претворение романтического образа композитора, в порыве внезапного вдохновения записывающего тему симфонии на салфетке. Тут уже нет ни симфонии, ни композитора, ни вдохновения, да и вместо салфетки — отсканированная бумага, — остается лишь рефлексия по поводу утраченного образа. Кое-где подписанный необлигатный текст — как это было в рассмотренной пьесе Загния и в «протометамодерной» музыке Сати — заставляет снова вспомнить о важном для метамодерна жанре песни, в этом случае «не без слов» (примеры 2а, 2б).
Пример
2аПример
2б«Canto ostinato» Симеона тен Хольта как неосознанный манифест метамодерна
Культовая музыка датского минималиста Симеона тен Хольта «Canto ostinato» (1976) с его бесконечно развертываемой, смутно знакомой каждому непрерывно ностальгически припоминаемой темой видится не только наиболее явственным, чистым и точным проявлением метамодерна, но и его своеобразным музыкальным манифестом.
Пример
3Тут важны как особенности собственно музыкального текста — зашифрованные песенность и танцевальность, выстраивание мелодии и гармонии из «отобранных временем» интонаций, ностальгичность и сентиментальность, отстраняемые минималистическим повторением, так и сам тип существования «Canto ostinato» в социокультурном пространстве. «Canto ostinato» — одно из самых популярных произведений академического композитора последних десятилетий, известное далеко за пределами профессионального музыкального сообщества. Множество переложений, созданных не только самим композитором, но и многочисленными исполнителями по всему миру, делает эту музыку неким универсальным текстом, способным к конвертации практически в любой инструментальный вариант — своеобразное возвращение в добарочный опыт. А также в «эмбриональный» период существования музыки, когда — как в фольклорной традиции — каждый мог в любой момент «подключиться» к единому коду.
Эйфорическая сентиментальность Симеона тен Хольта внеположна как сентиментальности романтизма, так и в принципе всем родам и видам прямого высказывания ХХ века. Можно даже назвать это «сакрализованной сентиментальностью»: бесконечное повторение все более определенно проступающей темы кажется постепенно проступающими словами какого-то священного текста.
Эту музыку можно слушать на концерте и в аудиозаписи, как самоценный объект и как фон, наконец, ее можно останавливать и включать снова когда угодно — повторяемость и универсальность обеспечивают мгновенное вхождение в этот сладостный метамодернистский трип без начала и конца.
Главным жанром метамодерна становится песня, главной техникой — репетитивность. В этом смысле название «Canto ostinato» — повторяющаяся песня — концентрирует в себе оба понятия, оказывается во всех отношениях программным для эпохи метамодерна, ключ к которой — продолжающееся пение, песенные повторы, непрерывное дление новой песенности. В противоположность «Il canto sospeso» — «Прерванной песни» авангардиста Луиджи Ноно, «непрерывная песня» Симеона тен Хольта может считаться провозглашением не только новой песенности метамодерна, но и его новой целостности.
Литература
- Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции / пер. с франц. А. Качалова. М.: Постум, 2017. 240 с.
- Борисова А. Метамодернизм в архитектур. URL: http://metamodernizm.ru/metamodernism-inarchitecture/ (дата обращения: 02.02.2019).
- Выготский Л. Психология искусства. М.: РИПОЛ классик, 2017. 528 с.
- Гребенюк А. А. Метамодернизм в психологии или уход от игры в жизнь к ее перформатизму // WORLD SCIENS: PROBLEMS AND INNOVATION. Сборник статей VI Международной научнопрактической конференции. В 2 частях. Ч. 1. Пенза: МНЦС «Наука и Просвещение». 2016. С. 313–317.
- Гребенюк А. Основы метамодернистской психологии. URL: http://metamodernizm.ru/metamodernismpsychology (дата обращения: 02.02.2019).
- Гребенюк А. А. Теоретико-методологические основы метамодернистской психологии // Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. Сборник статей III Международной научнопрактической конференции / под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Пенза: МНЦС «Наука и Просвещение », 2017. С. 189–195.
- Десятников Леонид: Википедия. URL: https:// ru.wikipedia.org/wiki/Десятников,_ Леонид_ Аркадьевич (дата обращения: 02.02.2019).
- Метамодернизм: Википедия. URL: https://ru. wikipedia.org/wiki/Метамодернизм (дата обращения: 02.02.2019).
- Маклюэн Г. М. Понимание медиа: Внешние расширения человека / пер. с англ. В. Николаева, закл. ст. М. Вавилова. М.: Кучково поле, 2017. 464 с.
- Серова М. Манифест русского метамодерна. URL: http://metamodernizm.ru/russian-metamodernmanifesto/ (дата обращения: 02.02.2019).
- Старобинский Ж. Чернила меланхолии [пер. с франц., общая ред. и предисл. С. Н. Зенкина]. М.: НЛО, 2016. 616 с.
- Шваб К. Четвертая промышленная революция: перевод с английского. М.: Эксмо, 2017. 208 с.
- Эпштейн М. Н. Постмодерн в русской литературе. Учебное пособие для вузов. М.: Высшая школа, 2005. 495 с.
- Юханнисон К. История меланхолии. О страхе, скуке и чувствительности в прежние времена и теперь [пер. И. Матыциной]. М.: НЛО, 2018. 320 с.
- Toth J. The Passing of Postmodernism. New York: State University of NewYork, 2010.
- Turnen L. Metamoderism: a brief introduction. URL: http://www.metamodernism.com/2015/01/12/ metamodernisma-brief-introduction/ (дата обращения: 02.02.2019).
- Turner L. Metamodernist // Manifesto. URL: http:// www.metamodernism.org (дата обращения: 02.02.2019).
- Vermeulen T., Akker R. Notes on metamodernism. URL: http://www.emerymartin.net/FE503/ Week10/Notes%20on%20Metamodernism.pdf (дата обращения: 02.02.2019).
- Metamodernism: A Brief Introduction. URL: http://www.metamodernism.com/2015/01/12/ metamodernism-a-brief-introduction (дата обращения: 02.02.2019).
Структура мышления метамодерна
В роковой день 11 сентября 2001 года мир изменился навсегда. Началась новая эпоха, которую многие учёные называют «гипермодерном» или «пост-постмодерном» (ударение на хронологическую позицию новой эпохи). Философы, культурологи и другие специалисты используют разные термины, пытаясь дать определение наступившему времени.
Метамодернизм — одна из существующих на сегодня попыток определить актуальную культурную реальность. Термин был предложен в 2010 году двумя голландскими философами-теоретиками Тимотеусом Вермюленом и Робином ван ден Аккером.
Адам Миллер: «End of the road» из цикла «Among the ruins» 2012 год(источник: adammillerart.com)Метамодерн — это глобальный культурный процесс, характеризующийся «колебанием» (осцилляцией) между двумя противоположностями (модерн и постмодерн, например) и одновременностью их использования.
Свои основные идеи Вермюлен и Аккер изложили в книге «Заметки о метамодернизме». Но перед тем, как разобраться, что такое метамодерн, давайте сначала постараемся выяснить, чем характеризуются предыдущие эпохи. Это поможет понять, почему метамодерн имеет приставку «мета» (над), и что «поднимает» его над другими парадигмами.
Модерн
Культура
Эпоха модерна начинается после так называемой классики — периода, включающего в себя античность, Средние века, Ренессанс и так далее. Классическая эпоха создала основные образцы произведений искусства, а модерн начал их пересматривать и искать новые формы выражения. Так, например, родились русский авангард, абстракционизм, дадаизм и другие формы. Применительно к искусству следует говорить про модернизм.
Политика
Идеи модерна достаточно радикальны. Например, философия модерна очень поляризована и не имеет градиентов (марксизм, анархизм, фашизм). В политике для модерна характерны жёсткие идеологии, которые ещё называются метанарративами — одним общим смыслом, который, как прокрустово ложе подгоняет под себя всё попадающее под руку. Модерн стремится сделать универсального, «массового» человека. Например, метанарратив сталинизма десятилетиями обтёсывал советское общество, избавляясь от всех, кто не подходил под формальные признаки «надёжного товарища» — вот политическое выражение модерна.
Модернистские идеи очень красивы в общей форме. Модерн породил яркие утопии и антиутопии. «Мы», «О дивный новый мир», «1984» — эти произведения радикализируют идеи модерна, которые в своё время были заложены ещё Томасом Мором и Томмазо Кампанеллой в их знаменитых трудах «Утопия» и «Город солнца».
Общества модерна часто вырождались в тоталитарные государства с жёстким государственным аппаратом. Но человек — это непостоянная система, его невозможно вписать в чёткие рамки, ведь стремление отойти от правил и догм всегда будет сохраняться. В каком-то смысле модернистские идеологии боролись против ветряных мельниц, желая обуздать вольный дух человека.
Философия
Модернистское сознание провозгласило смерть бога, стараясь осознать материальный мир, избавившись от идеи трансцендентного (духовного) и поставив во главу имманентное (материальное). С точки зрения модерна, используя технические инструменты, можно познать универсальную истину. Погоня за такой истиной дала нам атомную энергию, электронику, химическую промышленность, квантовую физику и многое другое.
Адам Миллер: «The bone wars» из цикла «Heading Discoverer» 2015-2016 гг(источник: adammillerart.com)
Универсальность истины не только надела на всех женщин чулки от фирмы DuPont, но и столкнула друг с другом целые цивилизации. Две мировые войны стали апогеем модерна. Если мы хотим общей истины для всех, но в то же время уничтожаем носителей этой истины (людей), то кто будет получать выгоду от проекта модерна? Узкая прослойка элиты, либо же вообще никто. 1945 год стал концом не только Второй мировой войны, но и модерна как цивилизационного метанарратива.
Постмодерн
Культура
Постмодерн открыл эпоху абсолютного плюрализма. Постмодерн сочетает в себе всё прошлое наследие человечества и деконструирует его, играя с ним, иронизируя, цитируя и копируя. Французский социолог Жан Бодрийяр назвал этот процесс созданием так называемых симулякров — бесконечных копий копий, где оригинал навсегда потерян. Для постмодерна игра с культурным наследием прошлых эпох превратилась в самоцель. Постмодерн в культурном плане создал ту самую массовую культуру, которую мы наблюдаем сейчас.
Массовая культура постмодерна настолько сложна, что её объяснение становится не менее увлекательным, чем потребление. Например, в русскоязычном интернете с этим отлично справляется журналист Гриша Пророков.
Массовая культура постмодерна имеет фантомную глубину. Зачастую она одномерна. Эту одномерность разные авторы превращают в квест из отсылок и цитат. Тексты постмодерна переплетаются так сильно, что не могут существовать друг без друга. Культурный дискурс постмодерна бесконечно усложняется, превращаясь в циклопическую матрёшку. По сути текст этой статьи — тоже постмодернистская матрёшка, поскольку потерял бы всякий смысл, не будь в нём тонн ссылок и цитат.
Антон Седнин
Исследователь метамодерна
— Например, писатель, номинант «Хьюго» Питер Уоттс имеет статус самого сложного фантаста современности. Книга «Ложная слепота» по количеству отсылок оказалась сопоставима с научным исследованием, так ещё и главный герой постоянно пользовался аналогом Википедии, чтобы дополнительно пичкать читателя мудрёной информацией. Но фанаты протолкнули роман в печать. «Ложная слепота» стала бестселлером.
Для зрителя поиск «пасхалок» стал чуть ли не главным смыслом потребления культуры.В культуре постмодерна произведения сложны не из-за того, что «пасхалками» стремятся заменить смысловую пустоту. Усложенение требуется, чтобы сделать восприятие произведения глубоким эмоциональным опытом. От прохождения такого «квеста» зритель получает удовольствие, потому что использует для этого весь свой культурный багаж. Выигрывает автор, который снабдит произведение достаточным количеством отсылок, чтобы принести зрителю удовольствие от культурной включённости. Так знание подменяется суррогатом знания, подмигиванием тем, кто «в теме». Зачастую произведения постмодернистской культуры предусматривают деконструкцию реальности и игру на её руинах.
Адам Миллер: «Apollo and Daphne» из цикла «Twilight in Arcadia» 2013-2014 гг(источник: adammillerart.com)
Политика
В постмодерне истина перестала быть универсальной. Конечно, эпоха Холодной войны ставит под сомнение это утверждение, потому что до конца 80-х годов мир был поделён на два враждующих лагеря: коммунистический и демократический. Но постмодерн проявил себя, в первую очередь, именно в демократических странах, а уже потом пришёл в страны Варшавского договора после падения «железного занавеса». Этим фактом можно объяснить несостоятельность коммунистической идеи: сложно находиться в статичной парадигме, когда прогрессивный мир стремительно уходит вперёд. Можно сказать, что модернистский коммунизм морально устарел к концу XX века, не выдержав ударов постмодернистских молотков по Берлинской стене.
Философия
Прежде всего, постмодерн отличается от модерна тем, что отрицает универсальную истину. Именно постмодерн окончательно похоронил бога, заставив сомневаться во всём. Если модерн пытался превратить индивида в «массового человека» (как в СССР, например), то постмодерн начал дробить, деконструировать общество до индивида.
Постмодерн сделал абсолютную истину условной: любая истина может быть побита другой истиной. В постмодерне понятие истины вообще теряет какой-либо смысл. Здесь нет того самого общего метанарратива, характерного для тоталитарных обществ. Нет идеологии, нет бога, есть конец истории, как писал американский политолог Фрэнсис Фукуяма. По его мнению, либеральная демократия, которая стала продуктом постмодерна, должна стать итогом общественного прогресса человека.
Митч Гриффит «Call of Duty» из цикла «Enduring Freedom»(источник: mitchgriffiths.com)
Постмодерн деконструировал всё, что построили другие культурные эпохи, начал играть с этими элементами, как с кубиками LEGO. Постмодерн иронизирует, цитирует и копирует, входя в бесконечную рекурсию в потоке бодрийаровских симулякров.
Дмитрий Кудров
Исследователь метамодерна
— Постмодерн не отказывает абстрактному ничему в праве на существование, тем самым делая всё бессмысленным и просто несерьёзным, он уничтожает любую вещь, через уничтожение центра, разума, логического мышления.
Но что-то начало меняться. Либеральные идеологии ощущают угрозу со стороны правых популистов вроде Дональда Трампа и Марин Ле Пен, массовая культура застряла в своей одномерности, а человек оказался в заложниках деконструкции и рекурсии. Глобализация не сделала мир по-настоящему единым, а информационные технологии, хоть и помогают людям общаться без преград, но, в то же время, поляризуют общество по информационному признаку.
Метамодерн
Культура
Метамодерн двигается благодаря раскачиванию между противоположностями (осцилляции). Он не занимает определённую позицию. Он воспринимает мир и культуру как один общий поток смыслов, которые есть части общей истины, где каждая единица важна и самодостаточна. В нём нет места снобизму, элитизму, нет высокой и низкой культуры.
Митч Гриффит: «Liberty» из цикла «Enduring Freedom»(источник: mitchgriffiths.com)
Метамодерн — это то состояние, когда вы можете испытывать честное удовольствие от всего. Вы можете читать Достоевского и всерьёз слушать Киркорова, любить сагу «Сумерки» и музыку Чайковского. Вы всё это любите не только честно, но и с иронией. Благодаря этому новому чувству, мы можем не зацикливаться на больших метанарративах, а искать собственную цель. Таким образом, раскачивание между модернистской серьёзностью и постмодернистской иронией поднимает метамодерн над ними. Примером могут служить вечеринки вроде «Дикого Диско!», где ирония, ностальгия и искренность накладывается на российскую треш-попсу.
Метамодерн стремится найти смысл культуры и искусства, наделить произведения глубиной. Но это глубина иного порядка, чем в постмодерне. Искусство метамодерна стремится к многомерности, как, например, в картинах художника Адама Миллера. В своём цикле «Среди руин» Адам использует приёмы классической иконографии для актуализации экологических и гуманитарных проблем. Другой художник, Митч Гриффит, в цикле картин «Несокрушимая свобода» использует аналогичные приёмы для актуализации проблем личности и свободного общества.
Политика
Политика в метамодерне будет находиться в ещё большей связи с культурой, чем прежде. Медиа и интернет-технологии в целом выступают единой средой для взаимодействия не только отдельных людей, но и институтов. Вполне вероятно, что через некоторое время под воздействием метамодерна политика станет не только более личной, но и менее элитарной.
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США показала, что человек без политического бэкграунда вполне может сесть в кресло президента. Хиллари Клинтон, которая занимается политикой всю свою жизнь, проиграла выборы какому-то яппи из 80-х! Но что будет, если в будущем на выборах в США победит Сергей Брин или Марк Цукерберг? Илон Маск? Деэлитизация политики может пойти на пользу обществу. Как и в крупных компаниях нового типа, политика может взять за основы корпоративные принципы XXI века. Звучит идеалистично, но в победу Барака Обамы тоже никто не верил.
Митч Гриффит: «The Final Word» из цикла «Iconostasis»(источник: mitchgriffiths.com)
Мы говорим, в первую очередь, о США, потому что это страна, которая порождает глобальные тренды — было бы глупо с этим спорить. Поэтому то, что происходит в политической жизни Америки, со временем может стать ориентиром или даже нормой для других стран.
Философия
В отличие от модерна и постмодерна метамодерн не является инструментом, философией или идеологией. По словам его создателей Вермюлена и Аккера, метамодерн — это структура чувства. Дело в том, что используя какую-то определённую когнитивную модель, человек радикализирует мир, ставит его в рамки. Метамодерн же призван встать над этими рамками. Это обстоятельство не позволяет считать метамодерн четкой философской системой.
Тимотеус Вермюлен и Робин ван ден Аккер.
Голландские философы
— У метамодерна нет цели, он движется ради самого движения, пробует, несмотря на неизбежный провал; бесконечно ищет истину, которую никогда не ожидает найти. Если вы нам простите такую банальную метафору, метамодерн преднамеренно берёт на вооружение двойное послание типа «морковка и осёл». Как и осёл, он преследует морковку, которую он никогда не съест, поскольку морковка всегда вне досягаемости. Но в точности из-за того, что он никак не может съесть морковку, он никогда не прекращает преследовать её.
Основатели русскоязычного сайта о метамодерне Артемий Гусев и Мария Серова в интервью журналу «Stenograme» рассказали о новой парадигме так: «Речь идёт о радикальной открытости, о всепринятии. И здесь открывается ещё один тонкий момент. Практика осцилляции (раскачивания) производит ощутимый побочный эффект — она даёт понимание того, что ты стационарно не связан ни с одним явлением, не отождествлен ни с чем. Путь индивидуальности — наблюдать эти раскачивания, но не делать своим пространством траекторию их колебания».
Мария Серова
Исследовательница метамодерна
— Метамодернизм предлагает взять цель, нечто лежащее за системами и религиями, как константу, способ достижения которой человек должен найти самостоятельно. Это и есть принцип индивидуальности, духовный аристократизм, творческая мораль как индивидуальное откровение, о котором так много говорили Бердяев и Зиновьев.
Однажды философия распалась из общего знания о мире на ряд отдельных дисциплин, занимающихся своими предметами. Это случилось тогда, когда Гегель придумал всё, что только можно. В своё время Карл Маркс хотел описать и осознать мир лучше Гегеля, но у него не получилось. Теперь же метамодерн возвращает людей к общему потоку гуманитарного знания, где важно всё.
Итог
С точки зрения идеологов метамодерна, мы вступаем в новую эпоху, где новый способ смотреть на культуру призван вытащить общество из модернистских и постмодернистских тупиков. Радикальные идеи модерна могут быть скомпенсированы постмодернистским отрицанием и сомнением. Метамодерн — это неуловимая истина где-то посередине. Метамодерн воплощает в себе человеческий дуализм и непостоянство — «социацию», о которой ещё говорил социолог Георг Зиммель. Социация — это то, что объясняет суть человеческого.
По мнению Зиммеля, человек подобен маятнику, который постоянно мечется между двумя крайностями, стремясь к балансу, но так никогда его не находя. Этим Зиммель объясняет непостоянство человеческой природы. Следовательно, ни один из нас не может быть категорично объяснён, ибо мы постоянно находимся в движении.
Таким образом, метамодерн не предлагает нам готовую идею или концепцию, а предлагает найти её самостоятельно, используя «осциллирующее движение».
Митч Гриффит: «Consumption» из цикла «The Promised Land»(источник: mitchgriffiths.com)
Восприятие мира через структуру чувства метамодерна поможет уйти от идеологической зависимости. Когда человеку больше не нужны общие метанарративы, им сложнее манипулировать. Метамодерн — это способ стать личностью. Но, в отличие от ничего не значащего субъекта постмодерна, метамодернистская личность составляет часть общей истины.
В метамодерне людям открывается полнота культуры, потому что можно без иронии и невежества воспринимать всю музыку, литературу, игры и фильмы, ведь в метамодерне нет высокого и низкого, а есть единый поток, где важен каждый элемент. Субъект, культура, политика, философия сливаются в одно постоянно движущееся целое.
Говоря про метамодерн, мы не имеем в виду ближайшие 5-10 лет. Метамодерн может продержаться в виде главенствующей парадигмы и 50 и 100 лет. За это время вырастет не одно поколение людей, которые будут отличаться от нас гораздо больше, чем люди из середины и конца XX века.
Также можно подумать, что идеалистически звучащая структура чувства метамодерна не для всех, а только для тех, кто в теме. Какое дело бабушке у магазина до метамодерна? Но ведь в том и суть, что эта абстрактная бабушка у магазина живёт в парадигме того же постмодерна, но не ощущает и не осознаёт этого.
Работа художника Адама Миллера(источник: adammillerart.com)
Культурные эпохи — это не законы или уставы, а атмосфера. Неосязаемый эфир, пронизывающий всех живущих в нём людей. Это тот самый дух времени. Постепенно метамодерн сможет стать эфиром для огромного числа людей. Кого-то он захватит силой, а кто-то будет принимать для себя структуру чувства метамодерна прямо сейчас — это не принципиально.
Метамодерн — это тот постоянно двигающийся фронтир, заставляющий нас идти вперёд, что хорошо показано в клипе американского певца Бэка на песню WOW. Тут вам и постмодернистская культурная деконструкция, и метамодернистский призыв к поиску собственного пути без отрицания мира.
29 марта 2017, 17:00
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.
Робин ван ден Аккер: интервью в Москве
7 декабря 2019 года Робин ван ден Аккер приезжал в Москву на презентацию русского перевода книги «Метамодернизм: историчность, аффект и глубина после постмодернизма».
Мари Миндиашвили и Светлана Наумова взяли у него интервью, где поговорили про смерть автора, спекулятивный реализм и современные тенденции в архитектуре, а так же задали вопросы от наших читателей.
— Когда мы говорим о модернизме или постмодернизме, мы не просто затрагиваем какой-то исторический период, очерченный временем, мы говорим о четкой системе ценностей и посылов. Эти ценности, методы или инструменты не только привязаны к конкретному историческому периоду и времени, но как бы выходят за рамки и проходят через всю историю культуры. Например, постмодернистские методы настолько фундаментальны, что их истоки можно обнаружить еще в романе Пушкина «Граф Нулин». Можно ли сказать, что метамодернизм задает подобные фундаментальные посылы, импульсы? Что метамодернизм сказал того, чего не было в авангарде, модернизме или постмодернизме?
Конечно стили могут быть историческими и антиисторическими. И, конечно, метамодернистская система ценностей, методов и инструментов, как Вы говорите, может быть найдена также и в остальных эпохах. Это касается и постмодернизма — абсолютно верно. Когда вы историзируете что-либо, какой-либо стиль, важным оказывается понять, насколько этот стиль был привилегирован, насколько широко он был распространен. И когда Вы это понимаете, Вы начинаете видеть, что в определенные периоды, в определенные моменты истории люди склоняются к определенным культурным предпочтениям, к определенным способам культурного мышления или к определенным художественным методам. Когда стили устаревают, они внезапно начинают занимать центральную сцену, в то время как мыслящие личности [эго] находятся в стороне. Именно поэтому мы никогда не говорим о тоталитарном типе стиля. Таким образом, доминирующая структура чувств или гегемонистская структура чувств (как бы вы это ни называли) существует в различных других стилях.
По крайней мере, можем посмотреть на исторические и художественные традиции как на непрерывное движение к равновесию в конкретных моментах, ожидая, что стили изменят свою конфигурацию, и те направления, которые некогда были на обочине, когда-нибудь смогут занять доминирующее расположение на центральной сцене.
Когда вы изучаете архитектуру, становится очевидным, что люди строят различными способами в соответствии с конкретным периодом и с конкретными технологическими возможностями того времени. То, что вы делаете в соответствии с техническими достижениями, может стать доминирующим способом мышления и производства. На сегодняшний день легко можно идентифицировать своего рода доминанты модернистских стратегий и эстетики текущего времени, которые все еще существуют в других исторических моментах, так как все равно построены в модернистском ключе. Вы также начинаете видеть, что все доминирующие стили являются очень органичным взглядом на происходящие изменения. Более того, их можно рассматривать как реконфигурацию всего спектра сегодняшних возможностей и определение наиболее популярного или доминирующего способа мышления.
— Нам бы хотелось остановиться на сходствах и различиях между метамодернизмом и постмодернизмом. В каком-то смысле метамодернистская «осцилляция» схожа с постмодернистским плюрализмом и множественностью. В чем все-таки заключается разница между постмодернистской множественностью и метамодернистским маятником «раскачивающимся между 2,3,5,10, бесчисленными множествами полюсов»?
Эклектицизм и плюрализм — интересные аспекты современного культурного производства — они позволяют людям использовать множество пост-стилей. И это правда, что постмодернизм тоже обращался к плюрализму — особенно ярко он проявился в преломлении историзма в архитектуре. Однако мы считаем, что в постмодернизме отношение к прошлому совершенно иное, особенно в прочтении Джеймисона. Я бы сказал, что здесь отношение к прошлому является одним из факторов, определяющих то, что можно назвать эстетически приятным — это то, что Джеймисон называл эстетическим популизмом масс. В метамодернизме мы можем наблюдать другое отношение к пост-стилям — они часто используются как способ исследования возможностей. Мы ищем новые возможности, относясь к прошлому и традициям гораздо серьезнее, чем это делали постмодернисты. Хорошим примером могут служить работы Херцог и де Мёрон, в которых одновременно отражаются и момент модернизма, и реакция на постмодернистские годы — они пытаются порвать с постмодернизмом в ключе очень серьезной эстетики. И вместе с тем они создают и много романтического и готического — мы упоминали об этом в первом эссе. Другой переход к тому, что я считаю очень современным, связан с эстетикой геологической формы.
— Геологическая форма является метафорой или аллегорией?
Я бы сказал, что это больше связано с чувственностью. Интересно, что сегодняшний формализм не характеризуется безграничной свободой. Абсолютный формализм больше не возможен в основном потому, что существуют правила и ограничения, связанные с функциональностью здания – как, к примеру, «активный дом» проектируется с учетом движения солнца или ветра. Функциональность опять же ограничивает то, какой может быть форма. Это кажется мне интересным, потому что сложно придумать нечто по принципу «форма следует функции» не в модернистском ключе). Вы видите, что это не просто формализм — это ограниченный формализм. Он ограничен экологичностью, консервативностью.
— А что насчет архитектуры Захи Хадид или Даниэля Либескинда?
Это очень хороший пример игривого формализма.
— Являются ли их современные проекты продолжением деконструктивизма (деконструктивистского типа мышления) или же они все-таки становятся частью нового мира — мира метамодернизма?
Джеймисон однажды написал, и я с ним согласен, что из всех искусств архитектура и архитекторы наиболее близки к экономике. Это значит две вещи: во-первых, то, что среди всех видов искусств архитектура наиболее ясным образом отражает способы делать, думать и чувствовать. А во-вторых, то, что архитектура — самая «медленная» форма искусства, принимая во внимание регулирующие строительство законы, финансирование и многие другие факторы. Иногда это также означает, что здания проектируются за много-много лет до реализации, а свои знаковые постройки архитекторы реализуют как правило будучи уже в возрасте. Мне сложно говорить о Либескинде, поскольку знаю о нем немного, но что касается архитектуры Захи Хадид, могу сказать, что она находится в том же спектре игривого формализма, который мы видели в деконструктивизме, в блобовой или делезовской складчатой архитектуре. Здесь связь архитектуры с экономикой разворачивается, как в эффекте с Бильбао. Первые компьютерно-сгенерированные модели были также направлены на расширение возможностей формы. Я считаю, это было связано как раз с моментом постмодернизма. Любопытно, что дальше мы видим внезапное появление новой серьезности — Петера Цумтора начинают почитать, как никогда раньше. Он проектирует павильон Серпентайн в Лондоне, который обычно представляет собой не более чем место для вечеринок. Однако неожиданно павильон оказывается садом со стенами — своего рода олицетворение пост-кризисного момента. Сейчас мы видим большое количество подобных проектов. Кроме того, как мне кажется, здесь становится заметной некая эстетика геологии, которая принимает архитектурную форму. Все это также связано с современной чувственностью — в ней отражаются проблемы климатических изменений, проблемы ограниченного из соображений устойчивого развития формализма. Бьярке Ингельс здесь отличный пример. Людям также нравится Snøhetta, верно? Они тоже формируют своего рода эстетику заботы о климате, геологическую эстетику, как в оперном театре в Осло, который по сути является неким «ледником». И таково почти каждое здание, которое они сейчас делают. Так что, для меня еще один способ участвовать в этой дискуссии лежит через модернизм и поздний модернизм.
— Значит постмодернизм и есть поздний модернизм?
Да.
— То есть вы не отделяете постмодернизм от модернизма? Я спрашиваю, поскольку некоторые теоретики не признают постмодернизм — они рассматривают его в качестве трансформированного модернизма, ну, или, как Вы сказали, в качестве позднего модернистского стиля.
Да, я знаю. То же касается и архитектуры, верно?
— Верно, но как вы к этому относитесь? Вы рассматриваете эти два стиля/направления в качестве оппозиций или вы трактуете постмодернизм как продолжение модернизма в трансформированном ключе?
Это всегда сочетание продолжения и трансформации. И оно зависит от того, что подчеркивается в тот или иной исторический момент. Вы не можете сравнивать Ле Корбюзье с Вентури — сказать, что они из одного спектра просто невозможно. И я неспроста говорю о различиях между модернизмом и поздним модернизмом: мы видели четыре реконфигурации капиталистических обществ: первые две произошли в результате внедрения промышленного капитализма и фабричного производства. Существует реализм и модернизм и в литературе, и в культуре, и в архитектуре, однако все это — немного разные явления. В архитектуре, я думаю, важным аспектом, характеризующим эти два направления, является тема функционального предназначения. Встает проблема хаотичного города, который все еще остается перегруженным. Будь то Барселона или Манхэттен, архитектура Ле Корбюзье или архитектура брутализма — все эти примеры относятся к функционализму. Постмодернизм возник после того, как индивидуальный сектор разросся и начался аутсорсинг услуг со всеми вытекающими проблемами — еще до Второй мировой войны. И деконструктивистская архитектура, и блобитектура, и другие явления связаны с расширением среды в направлении к бесформенности. Или, иначе говоря, к бесконечным возможностям форм, поиск которых все еще ведется — все это можно увидеть и в метамодернизме. Я бы сказал, что эти два момента являются частью модернизма — их можно рассматривать как продолжение модернистских традиций, в котором форма преобразуется согласно текущим потребностям и адаптируется к сокращению выбросов. Я думаю, здесь легко можно выявлять различия между эстетическим уровнем и функциональным. Таким образом, я думаю, что все еще возможно идентифицировать определенные стили и соотнести их с определенными историческими моментами. Об этом трудно дискутировать, так как постмодернизм в архитектуре — это пост-результаты модернизма (или последствие модернизма), что само по себе является очень специфическим стилем. Когда вы используете тактику «Я просто сделал», вы выбираете стиль, который становится исторически распространенными в один конкретный момент. Тогда внезапно постмодернистская архитектура становится модернистской, а вновь нужными оказываются блобы, деконструктивизм, цифровая архитектура, архитектура складок и т. д.
— А архитектура «складок» (или складчатая архитектура) больше про постмодернизм или метамодернизм?
Про постмодернизм, я бы сказал, но я не эксперт, верно? Это основано на моих личных представлениях.
— Можно ли сказать, что складчатая архитектура продолжает традиции декоструктивизма в ключе делезовских представлений о складке?
Да, поскольку я думаю, что она связана с постмодернистскими моментами в культуре. Но, конечно, она также может быть использована для других назначений и целей, основанных на других ценностях. С моим ограниченным представлением об истории архитектуры я бы сказал, что делезовские складки тесно связаны с моментом расширения формальных возможностей. Но они также могут быть использованы и в литературе — здесь мы имеем метапрозу и иронию метапрозы. Вы можете увидеть то, как авторы используют это, чтобы создать нечто иное. В современной художественной литературе такие авторы, как Бен Лернер или Крис Краус, берут что-то строго постмодернистское и пытаются переосмыслить на метамодернистский манер. Возможно, то же самое происходит и в архитектуре складок, я не знаю.
— С нашей точки зрения архитектура «складок» довольно современна. Или точнее было бы сказать, что она предтеча современности. В каком-то смысле деконструктивистская архитектура для нас является ее началом. Архитекторы больше не цитируют Дерриду, но многие инструменты и методы, популярные в то время, используется до сих пор. Такое можно увидеть и в архитектуре, и в искусстве. Таким являются и новые проекты Рема Колхаса, к примеру.
Да, к примеру здание Де Роттердам Колхаса можно рассматривать как некую деконструкцию Манхэттенского силуэта.
— Или даже музей Прадо. Мы можем увидеть постмодернистские или декоструктивистские методы даже в архитектуре MVRDV. Я имею в виду все их цитаты, референции, отсылки на разные исторические моменты. Но вместе с тем все это может быть распознано как метамодернизм, как часть метамодернистской наивности и честности.
Да, я думаю это хороший пример.
— Да, но для нас часто бывает трудным идентифицировать стиль: является ли здание метамодернистским или постмодернистским? Некоторые принципы оказываются сквозными — они используются и тут, и там, и в постмодернизме, и в метамодернизме.
Поскольку это технический прием, верно? Коллаж, цитирование — это технология проектирования. В действительности можно наблюдать использование технологий, которые, в сущности, пост-постмодернистские, но также и постмодернистские. Но вы оказываетесь перенаправлены на новую эстетику, новую чувственность или новый опыт строительства, и в этом случае не стоит иронизировать в духе постмодернистской шутки Chip’n’Dale. Но должна быть искренность, наивность. Для меня это больше про современность, про сегодняшний день, чем про 80-е или 90-е. Мы часто говорим о стиле, но я думаю, что мы должны говорить о коллекциях стилей и о том, как эти стили или методы могут создавать новый стиль архитектуры. Технику можно использовать в обоих исторических моментах. Но для чего? И основываясь на каких принципах? Думаю, в этом вопрос. Но также я согласен с вами, что форма современности намного шире, чем сейчас. Как вы сказали, она начинается в 80-х и 90-х годах.
— Сегодня тема поисков связей между философией и архитектурой становится вновь актуальной. Можно найти большое количество примеров на эту тему. Об этом отчасти писал и Джеймисон в контексте феномена «транскодирования», однако специально эту тему он не разворачивал. Как вы считаете, каким образом философская мысль может быть переведена/транскодирована/преобразована в архитектурную форму?
Ну, в этом заключается основная сложность. Как вы переводите, как транскодируете, что происходит в материальных условиях и как это соотносится с культурными манифестациями — как говорить обо всем этом? По справедливости, мы можем говорить об этом на уровне культурной философии, культурологического анализа. Я думаю, что это также связано с вашим вопросом — как вы можете создавать архитектуру, а затем говорить об этом на языке философии и теории, принимая во внимание различные опосредования, которые также представляются в диаграммах и манифестах. Дело в том, что метауровень абстракции — это то, что я смог связать с конкретным манифестом, а именно со зданием. Тем не менее, более абстрактный уровень, такой как архитектурная критика, например, позволяет определить тот язык, с помощью которого становится возможным вести разговор на других дисциплинах. И это задача аналитиков — определить, как это можно сделать. Я думаю, просто делая или предпринимая активные действия. И когда достаточно людей смогут соотнестись с этим языком, тогда вы становитесь хорошим дипломатом, хорошим переводчиком.
— Мы бы хотели также затронуть тему спекулятивного реализма. Как вы понимаете «спекулятивный образ мышления»? Можно ли сказать, что спекулятивный реализм легитимирует плюрализм, а следовательно, продолжает постмодернистскую традицию пролиферации множественности? Как это отражается на архитектуре? Является ли зеленая, цифровая, устойчивая архитектура частью этого мира, наполненного спекуляциями?
Спекулятивный реализм может представлять множество вещей. Я думаю, что прежде всего он является методом. Он характеризуется возвращением своего рода метафизического момента в философии и основывается на первичных, базовых принципах, согласно которым вы можете начать думать, продумывать и придумывать, формируя системы, что, по сути, после смерти метафизики может выглядеть довольно агрессивным философским ходом. И примером здесь могут служить Рэймонд Мартин, Грэм Харман и др. И этот принцип может позволить обрести множество форм и очертаний, до тех пор, пока он остается в системе концептуального мира, который создан стремлением стандартизировать. Я спекулирую и в эту минуту, верно? Я пытаюсь сделать прыжок к тому, что вы говорите. Я не знаю, это просто интуиция. Это то, что я хочу сказать. Так что не ссылайтесь на меня по этому поводу. Адаптивная и сенсорная архитектура делает то же самое. Есть определенные принципы, последовательности: если это, то это. А затем системы снова становятся гибкими в характере манифестации. Таким образом, вы можете сказать, что они являются симптомом чего-то подобного, но это также становится возможным благодаря языку алгоритмов. Спекулятивный реализм часто функционирует как алгоритм: если A, то B. Если В, то С. «Умная» архитектура охватывает все углы и, возможно, каждый кусочек соединительной ткани. Я не думал об этом ранее. Таким образом, это чистое предположение, которое должно быть проверено строгой аргументацией и рассуждением. Вот и все. Как вы думаете?
— Я думаю, что алгоритмы, в определенном смысле, равносильны диаграммам (или же они часть диаграмм), поскольку диаграммы сами по себе алгоритмичны (или могут быть алгоритмичными). Я подвожу к тому, что спекуляции могут производиться диаграммами, не так ли?
Да, верно.
— Культуролог и философ Славой Жижек в одной из своих книг писал о том, что любые идеологии (включая и политические программы, и отдельные концепции) используют образ врага. А формулировка убеждений идет от обратного: от того, что «врагу» противопоставлено. Есть ли образ врага в концепции метамодернизма? Существует ли идеология, противопоставленная метамодернизму?
Когда мы говорим о культурном доминировании, мы автоматически оказываемся связаны с вопросом идеологии. Так что это совсем не странный вопрос, но он задается во множественном числе. Я говорю, как учил нас Хомский: не идеология, а идеологии. Некоторые из них являются доминирующим видом, а некоторые оказываются терпимыми и могут существовать где-то на периферии. К сожалению, когда вы смотрите в настоящий момент на культуру доминирования в большинстве западных капиталистических обществ, то обнаруживаете, что не существует общего идеологического русла — оно очень поляризовано. Но я думаю, что здесь присутствует и антропологический феномен, верно? Враг, который был создан на данный момент — беженцы. И это наиболее отчетливо видно в идеологических формациях, которые воспроизводятся по большей части правыми политиками по большей части на властном популизме. Но это также просачивается в основную политику. Датская лейбористская партия также сейчас говорит о формальной социал-демократии, которая сформирована только из тех, кто уже находится в Дании. Она не для иммигрантов или беженцев. И конечно это ново, но также и не ново. Он говорит об этом как политической константе, так как об этом уже говорят. Чтобы сформировать себя изнутри необходим некто со стороны, чужой. Но это также современно в том смысле, что когда речь идет о культуре и о том, кто к ней относится, а кто к ней не принадлежит, мы опять упираемся в постмодернизм с его расширяющим границы мультикультурализмом. Культурно соотноситься с утверждением о том, что кто-то может быть частью вашей культуры, а кто-то может быть допустим. Конечно, мультикультурализм не бесконечен. Он часто основывается на поддельном понятии толерантности —мы терпим вас, пока вы нас не беспокоите. Но это также «да, мы нация многих, многих культур, и мы все можем жить под одной крышей». Теперь, когда в метамодерне, в 2000-х и после 2000-х годов, произошли изменения, эти идеи стали распространятся не только среди популистов, но и среди авторитарных личностей. Об этом говорят и такие люди, как Ангела Меркель (о глубине мультикультурализма), голландский премьер-министр Марк Рютте, в Великобритании — Тони Блэр. Так что все они — сторонники определенного способа управления, который сейчас мы имеем как результат культурных трансформаций, изменений определенных условий в ответ на давление радикального популизма. Начинают говорить о мультикультурализме, но о нормативном государственном значении. Но, как только вы начнете с глубин, иммигранты или беженцы автоматически станут вашим врагом. Конечно, они могут быть интегрированы. Я думаю, что это самый доминирующий сдвиг. И опять же, что очень важно: вы никогда не морализуете будучи культурным аналитиком, вы просто делаете наблюдения о том, что произошло и что выглядит довольно проблематичным, но вы никогда не говорите о том, хорошо это или плохо. Что важно, если есть кто-то, кого вам необходимо понять, если вы хотите быть прогрессивным или хотите придать иной политический окрас — это тоже в порядке вещей. Но это то, чем вам необходимо проникнуться.
— А существует ли образ врага в метамодернистской архитектуре? То есть если постмодернизм может быть противопоставлен модернизму, что может лежать в оппозиции метамодернистской архитектуры?
Так что же является объектом противодействия? Это интересно. Я думаю, что это также связано с тем, что они оба являются частью одной и той же формы бытия, поэтому многие предварительные условия более или менее одинаковы. Но много предпосылок поменялось. Враг — это какая-то ироничная, игривая, странная архитектура? Я не знаю, это вопрос. Архитектура все еще игрива с точки зрения формы, но она не хочет быть просто игривой, но хочет также означать и делать что-то еще. Быть серьезной, быть вовлеченной. Быть как Бьярке Ингельс — он написал манифест в форме мультфильма. «Меньше значит больше». После он проиграл постмодернистскому моменту с «меньше значит скучно», а теперь возникло «да — это больше», верно? Существуют некоторые показатели, идентифицирующие вражду. Почему вы думаете, что нет образа врага в архитектуре?
— Постмодернистская архитектура близка к тому, чтобы стать «врагом» современности, однако современные тенденции и направления доказывают обратное. До сих пор некоторые идеи остаются популярными. Нет ярой конфронтации — потому трудно называть постмодернизм «врагом». А некоторые до сих пор любят постмодернистскую архитектуру.
Да, интересные наблюдения.
— В ситуации с Прюитт-Айгоу «образ врага» был сильнее выражен.
Да, абсолютно верно. Но тогда жест модернизма тоже был намного сильнее. Модернизм — своего рода навязывание формы здания, он может нуждаться и в реакции, которая гласит: встань и уважай традиции, местные кварталы, исторические стили, не будь нелепым. И этот модернизм был очень комплексным во многих вещах и включал также и юмор, может быть не в самом идеальном виде. Если вы как архитектор скажете, что эта форма архитектуры слишком увлекательна и забавна, то это будет говорить о том, что вы скучны — что является не очень хорошим утверждением. Архитектура прошлого могла быть приятной, комфортной. Может и так. Но она не была политически и социально вовлеченной. Больше нет шутливой архитектуры. Возможно, здесь кроется образ врага. Сложно сказать.
— Как вы относитесь к идее «смерти автора» Ролана Барта? В автомодернизме и диджимодернизме раскрывается очень интересный портрет современного человека, творца и потребителя. В них усиливается идея смерти автора Ролана Барта. Какова позиция автора в концепции метамодернизма? Согласны ли Вы с Кирби и Самуэльсом?
Конечно, есть что сказать по поводу исчезновения автора в коллаборациях. Я думаю, это то, о чем Кирби в основном пишет. На самом деле было бы несправедливо говорить, что это напрямую связано с концепцией Ролана Барта. Здесь исчезновение автора буквальное. Если серьезно, говоря о коллаборациях и даже об Интернет сетях в целом, все равно можно обнаружить очень маленький процент тех, кто создает контент, в то время как потребителей — вереница людей. Так что здесь все на нюансах. И я следую этой логике. На уровне эстетики это равнозначно тому, что они более не являются художниками или практикующими архитекторами. Вы можете мгновенно узнать Тойо Ито, Бьярке Ингельса, Херцога и де Мёрона, Заху Хадид. Еще существуют индивидуальные стили и в этом смысле они все еще авторы.
— Но они звездные архитекторы. Только они узнаваемы — лишь десяток архитекторов по всему миру можно узнать по их работам.
Я бы сказал, что это своего рода шаг к интервенционистской архитектуре. Современная архитектура социально обоснована. Если вы работаете с сообществами, можно легко распознать стиль, как например, «Средний палец» или Бильбао — это тоже своего рода стиль. Они не звездные архитекторы, но они — очень узнаваемые практики. А звездные архитекторы — часть культурных доминант — они наиболее обсуждаемы в Architectural Review. О ком говорят и пишут в газетах? Кто зарабатывает больше денег? Это важное обстоятельство, позволяющее понять, что доминирует на сегодняшний день. Сегодня из-за Интернета, из-за коллабораций больше не существует автора. Тоже самое распространяется и на литературе, верно? Но существует и огромный культ автора. Зэди Смит является автором. И я полагаю, что большинство романов, которые делаются совместно, являются онлайн фанфиком. Другой пример — Википедия, но в ней скорее смягчен результат. Это — не результат мысли большинства людей. Архитектура — тема, которая очень дорога моему сердцу, и я очень боялся много о ней писать. Я написал немного об этом в первой статье и для журнала MONU. Вместе с профессором истории архитектуры мы сейчас пишем книгу о современных тенденциях в архитектуре. Позже Вы сможете с ней ознакомиться.
— И напоследок, для нас также большой интерес представляет концепция гибридности или гибридов. В связи с этим возник вопрос, является ли гибридизация единственным способом создать нечто новое? Есть ли что-то помимо гибридов? Современная архитектура тяготеет к тому, чтобы использовать синтезирующие методы. Часто можно наблюдать, как соединяются воедино различные хорошо узнаваемые архитектурные фрагменты или детали. Их используют, вернее используют заново, чтобы создать новое на гибридный манер.
Я думаю, что Вы правы. Мне также кажется, что условий и возможностей для авангардистских моментов или любых иных форм инноваций, в которых торжествуется некий пуризм, больше нет — они невозможны.
— То есть единственное, что у нас есть — это гибриды?
Да, я так думаю. В книге [Метамодернизм: историчность, аффект и глубина после постмодернизма] Йорг Хейзер говорит о супергибридности как о состоянии и о возможности, и я думаю, что в действительности гибридность — способ делать вещи. Но он зависит и от того, каким образом гибридность сформировалась, как был достигнут этот эклектизм. Тут возникает множество различий с постмодернизмом.
— Мы выбрали три вопроса от подписчиков русскоязычного журнала о метамодернизме. Не могли бы Вы прокомментировать эти вопросы.
- Во втором томе Капитализма и Шизофрении, Делёз с Гваттари описывают ситуацию или архетип некого номада, субъекта бегущего или исключённого из иерархической структуры или идеологического нарратива, находящегося на линии ускользания и ищущего по возможности другие структуры в которые он мог бы вклинится. Не считаете ли вы что это сходно с состоянием метамодерна, в котором мы, не имея больше мифологемы или идеологемы, в которые можно беспрекословно верить, не имея предзаданной модели или роли в быстро меняющемся обществе, вынуждены постоянно цепляться за любые возможные локальные нарративы, чтобы придать какое-то символическое значение нашей жизни и сформировать хотя бы на какое-то время устойчивое мировоззрение. Плывём от корабля к кораблю, если прошлый вдруг пошёл ко дну или выбросил нас за борт.
Для начала предварительные замечания. Быть метамодернистом или сам метамодернизм — это не что-то, что «замораживает» желаемое состояние бытия. Когда мы занимаемся культурным анализом мы избегаем морализирования – нет плохого и хорошего, но есть проблематизация. Имея в виду эти ремарки, я определенно должен ответить не так, как вы меня спросили.
Итак, шизофрения для Делёза и Гваттари создается самим капитализмом как форма субъективности и это потому, что капитализм, по сути, есть постоянно разворачивающийся и производящий то, что является новым — это главный аксиоматический принцип. В отличие от более «старых» обществ, в которых есть определенные способы блокировки роста или закрепления в состоянии негибкости, неизменности и т.д. Капитализм на самом деле должен моделировать это. Поэтому речь идет не о данном конкретном дне и времени, а о том, какова связь с этой формой субъективации и что мы на самом деле видим сейчас в эпоху деглобализации, в эпоху мобилизации плебеев против элиты.
Говоря о националистической культуре или о супер-национальных институтах в эпоху гегемона: например в США мы можем наблюдать, что центральная логика капитализма вновь ограничена слоями, характерными для данного конкретного момента времени. Так что ни я, ни мои коллеги, думаю не согласились бы с тем, что это новое состояние бытия. Кроме того, я не согласен с тем, что нынешнее состояние капитализма доминирующее, потому что то, что я только что сказал — капитализм — это не своего рода неконтролируемые моменты либерализма, но вновь пересмотренное, перепроверенное, пере-укрепленное на структурных уровнях каждой плоскости существования.
Но номад — «кочевник», почти противоположность. Номад на самом деле является наиболее доминирующим архетипом (если я могу использовать это слово), потому что он подозрителен, и, это например, не то, что заявляет нация. Необходимо пояснить, что весь мой ответ основан на нашей работе над западным капиталистическим обществом. Если речь идет о том, что происходит в России — я не знаю.
- Второй вопрос касается метамодерна и теории отрицания смерти Эрнеста Беккера. Если коротко, то эта теория устанавливает связь между инстинктом самосохранения/страхом смерти (фундаментальным для человека аффектом) и ответом на него в виде культуры, предлагающей героизм, буквальное или символическое бессмертие. Не является ли в таком контексте метамодерн, тоже связывающий аффект с нарративом, некой диссоциативной парадигмой, где перформативное и постироничное погружение в миф/нарратив позволяет ощутить этот самый смысл, с другой стороны критический мета-уровень всегда сохраняет скептическое отношение к легитимности такого мифа и как спасательный трос вытаскивает нас из погружения в этот миф, если это погружение перестаёт быть прагматичным.
Интересный вопрос. Я недостаточно знаю об Эрнсте Беккере, поэтому буду опираться в большей степени на тематику вопроса. И эта тема касается теории отрицания смерти и культуры героизма как символа бессмертия в литературе. Итак, на мой взгляд, годы постмодернизма сопровождались глубокой политизацией. Гегемонические установки сформировали уровень согласия с вопросом о том, как люди хотят, чтобы ими управляли. Это могло произойти относительно спокойно, и вы могли бы назвать это смертью политики — пост-политическими моментом. Как и в книге Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории и последний человек» это также означает, что есть много людей, которые на самом деле являются «последним человеком«, у которых нет ничего, ради чего стоило бы жертвовать собой, ничего, к чему можно было стремиться, и все заботы которых сводятся к достижению собственного комфорта по принципу «справиться с трудностями и выжить« что довольно просто в ситуации с таким обширным влиянием растущего общества потребления. То, что мы видим сейчас — это тоска по индивидам. Реполитизация здесь будет выступать как своего рода попытка преодолеть отрицание. Интересно, что когда дело доходит до мифа и того, чем он может быть, мы перестаем говорить просто об эстетике. Миф на самом деле очень важен в политике, и сейчас мы видим борьбу за то, каким может быть правильный миф. То есть сейчас мы выбираем миф. Если мы говорим, что героизм означает жертвовать чем-то для преодоления проблематичной ситуации, то прогрессивная форма мифа заключается в попытке пожертвовать излишествами повседневной жизни в пользу решения проблем глобального изменения климата. Это путь, приключение. То же самое на другой стороне спектра — там тоже есть героизм, но необходимо преодолеть тот факт, что наша культура подвергается нападкам со стороны людей с другими ценностями, и это делает слабее нас: феминисток, постмодернистов, культурных марксистов — все это также можно расценивать как историю о борьбе. Опять же, понятно, что я больше связан с прогрессивной нишей, но как культурный аналитик вы должны учитывать и то и другое, форма мифа основана на форме героизма: борьба с преодолениями и жертвами; поэтому я бы сказал, что в данный момент в культуре это явно доминирующее.
- Жак Деррида говорил, что нет ничего вне текста («текст — это абсолютная тотальность»). Какова позиция метамодернистов по этому поводу? Можем ли мы преодолеть текст, выйти за его пределы с помощью новой культурной парадигмы? Или же метамодернисты не ставят подобные вопросы и занимаются разработкой других концептов, если да, то таких (касательно лингвистики и филологии)?
Опять же, как философ культуры, я читал эссе Дерриды. Существует большое количество текстов и невозможно точно сказать, где останавливается один текст и заканчивается другой. Но если вы историзируете это и смотрите на это в перспективе культурного философа или культурного аналитика или культурного марксиста, вы не можете проникнуть сквозь поверхность — вы видите системные аспекты производства текста за пределами текста — подобный эффект также наблюдается в постмодернизме и далее. В живом мире полностью доминирует семиотика, и то, что спрятано от вас, является фактом того, что ваша часть мировой системы позднего капитализма не имеет отношения к вашей феноменологической ситуации. Я думаю, Дерриду можно также читать симптоматически. То есть не столько философски, сколько с точки зрения симптоматики, как обозначение момента в культуре, когда все становится текстами, обзорами. А систематические аспекты почти спрятаны в плоскости, не видны, не воспринимаются. Вот как бы я это прочитал. И что происходит сейчас, так это то, что системный мир очень хорошо виден и с точки зрения феноменологических внутренних проблесков. Хорошим примером является книга Бена Лернера, в которой он писал о Нью-Йорке 2012 года. Он писал, что погода была не по сезону теплая, потому постоянно что-то происходило: ураган Катрина 2012 года, ураган Сэнди и другие события. Так что, да, системное правило прямо на лицо, в отношении качества и изменения климата особенно. Я бы сказал, что да, нечто абсолютно точно существует вне текста, и система, которая, собственно, произвела текст, феноменологически теперь более доступна для поиска ответа на вопрос, что являет собой это «вне».
Изображения:
- Elbphilharmonie Hamburg 2016 / Herzog & de Meuron: https://www.archdaily.com/802093/elbphilharmonie-hamburg-herzog-and-de-meuron
- Changsha Meixihu International Culture and Art Centre 2019 / Zaha Hadid Architects: https://www.archdaily.com/929645/changsha-meixihu-international-culture-and-art-centre-zaha-hadid-design
- Serpentine Gallery Pavilion 2011 / Peter Zumthor: https://www.archdaily.com/146392/serpentine-gallery-pavilion-2011-peter-zumthor
Интервьюеры: Мари Миндиашвили и Светлана Наумова
Иллюстрация: Мария Серова
Постмодерн | Психология вики | Фэндом
Оценка |
Биопсихология |
Сравнительный |
Познавательная |
Развивающий |
Язык |
Индивидуальные различия |
Личность |
Философия |
Социальные |
Методы |
Статистика |
Клиническая |
Образовательная |
Промышленное |
Профессиональные товары |
Мировая психология |
Индекс философии: Эстетика · Эпистемология · Этика · Логика · Метафизика · Сознание · Философия языка · Философия разума · Философия науки · Социальная и политическая философия · Философия · Философы · Список списков
Постмодернизм (также называемый постмодернизмом или постмодернистским состоянием ) — это термин, используемый философами, социологами, арт-критиками и социальными критиками для обозначения аспектов современного искусства, культуры, экономики и социальных условий, которые являются результатом уникальных особенностей жизни конца 20-го — начала 21-го века.Эти особенности включают глобализацию, консьюмеризм, фрагментацию власти и коммерциализацию знаний ( см. «Современность»).
Термин постмодернизм используется по-разному. В большинстве случаев постмодернизм — это состояние или состояние постмодерна (то есть, после или в ответ на то, что является современным), особенно в отношении постмодернистского искусства и постмодернистской архитектуры. В философии и критической теории постмодернизм более конкретно относится к состоянию или состоянию общества, которое, как говорят, существует после модерна .Родственный термин — это постмодернизм , который относится к движениям, философии или ответам на состояние постмодернизма или реакции на модернизм.
Большинство теоретиков постмодернизма рассматривают его как историческое состояние, которое отмечает причины конца современности, определяемой как период или состояние, отождествляемое с Промышленной революцией или Просвещением. Говорят, что одним из «проектов» современности было содействие прогрессу, который считался достижимым путем включения принципов рациональности и иерархии в аспекты общественной и художественной жизни.(см. также постиндустриальную эпоху информации). Это использование приписывают философам Жан-Франсуа Лиотар и Жан Бодрийяр. Лиотар понимал современность как культурное состояние, характеризующееся постоянными изменениями в стремлении к прогрессу, а постмодернизм — как кульминацию этого процесса, когда постоянные изменения превратились в статус-кво , а понятие прогресса устарело. После критики Людвигом Витгенштейном возможности абсолютного и тотального знания Лиотар также утверждал, что различные «основные нарративы» прогресса, такие как позитивистская наука, марксизм и структурализм, перестали существовать как метод достижения прогресса.
Литературный критик Фредерик Джеймсон и географ Дэвид Харви определили постмодерн с «поздним капитализмом» или «гибким накоплением»; то есть стадия капитализма, следующая за финансовым капитализмом. Эта стадия капитализма характеризуется высокой степенью мобильности труда и капитала и тем, что Харви назвал «сжатием времени и пространства». Они предполагают, что это совпадает с распадом Бреттон-Вудской системы, которая, по их мнению, определила экономический порядок после Второй мировой войны.(См. Также Потребительство, Критическая теория)
Многие философы, особенно те, кто считает себя участниками современного проекта, используют постмодерн с обратным подтекстом: предполагаемые результаты удержания постмодернистских идей. Наиболее заметно это включает Юргена Хабермаса и других, которые утверждают, что постмодерн представляет собой возрождение давних идей контрпросвещения.
Сиднейский оперный театр
«Постмодерн» также используется для обозначения периода в архитектуре, начавшегося в 1950-х годах в ответ на международный стиль, или художественного периода, характеризуемого отказом от сильных разделений жанров, «высокого» и «высокого». низкое «искусство» и возникновение глобальной деревни.Постмодерн, как говорят, отмечен возрождением поверхностного орнамента, отсылкой к окружающим зданиям в городской архитектуре, историческими ссылками в декоративных формах, неортогональными углами, такими как Сиднейский оперный театр и здания Фрэнка Гери.
Для некоторых его критиков «постмодернизм» — это просто циничная вера, растворение причины и следствия, отсутствие порядка.
Философия и критическая теория [править | править источник]
В философии и критической теории использование термина «постмодерн» имеет тенденцию группироваться вокруг двух групп мнений.Один утверждает, что современный проект завершен, и что постструктурализм, особенно с антифундаменталистскими идеями, должен быть включен или вытеснен современными представлениями о критике. Для этой группы работы Лиотара, Бодрийяра, Фуко и Джеймсона представляют собой окончательный ответ современному проекту. В целом вера в этот диапазон мнений состоит в том, что постмодерн как условие предшествует принятию постмодернизма. В этом контексте это нейтральное к позитивному термину, нейтральное в том смысле, что это положение дел, но позитивное в том, что оно обычно представляется как отказ от ограничивающих предположений или структур предыдущего периода.
Другая выдающаяся позиция в философии обычно связана с современной критической теорией, особенно с Юргеном Хабермасом. Он утверждает, что современный проект не закончен, и от универсальности нельзя так легко обойтись. В общем, использование этого термина в этом контексте утверждает, что постмодерн является следствием приверженности постмодернистским идеям. В данном контексте это вообще отрицательный термин.
Черты [править | править источник]
Джеймсон выделяет ряд явлений, которые, по его мнению, отличают постмодернизм от модернизма.Первый — это «новый вид поверхностности» или «бездонность», в которых модели, которые когда-то объясняли людей и вещи с точки зрения «внутреннего» и «внешнего» (например, герменевтика, диалектика, фрейдистское подавление, экзистенциалистское различие) между аутентичностью и неподлинностью, а также семиотическое различие означающего и означаемого) были отвергнуты.
Вторая — это отказ от модернистского «утопического жеста», очевидного у Ван Гога, трансформации посредством искусства страдания в красоту, тогда как в постмодернизме объектный мир претерпел «фундаментальную мутацию», «теперь стал набором вещей». тексты или симулякры »(Джеймсон 1993: 38).
В то время как модернистское искусство стремилось искупить и сакрализовать мир, дать ему жизнь (мы могли бы сказать, следуя Граффу, чтобы вернуть миру очарование, которое у него забрали наука и упадок религии), постмодернистское искусство наделяет мир «качествами смерти … чья ледяная элегантность в рентгеновских лучах умерщвляет овеществленный глаз зрителя таким образом, который, казалось бы, не имеет ничего общего со смертью, одержимостью смертью или страхом смерти на уровне содержания» ( там же.).
Графф определяет истоки этой преобразующей миссии искусства в попытке подменить искусством социальную роль религии как наполняющей мир смысла. Искусство должно было заново наполнить мир смыслом, который устранили рост науки и рациональность Просвещения. Однако в период постмодерна эта задача окончательно обнаруживается как бесполезная.
В-третьих, Джеймсон определяет черту эпохи постмодерна как «ослабление аффекта». Он отмечает, что не все эмоции исчезли из постмодернистской эпохи, но что в них отсутствует особый вид эмоции, такой как та, что присутствует в «волшебных цветах Рембо, которые смотрят на вас назад».Он отмечает, что «стилизация затмевает пародию», поскольку «растущая недоступность личного стиля» приводит к тому, что стилизация становится универсальной практикой.
Джеймсон утверждает, что расстояние «было упразднено в новом пространстве постмодернизма. Мы погружены в его отныне заполненные и залитые объемы до такой степени, что наши теперь постмодернистские тела лишены пространственных координат». Это «новое глобальное пространство» составляет «момент истины» постмодернизма. Различные другие черты постмодерна, которые он определяет, «теперь могут рассматриваться как частные (но конститутивные) аспекты одного и того же общего пространственного объекта».
Для Джеймсон эпоха постмодерна ознаменовала изменение социальной функции культуры.Он определяет культуру в современную эпоху как обладающую свойством «полуавтономности», ее «существованием … над практическим миром существующего». Но в эпоху постмодерна культура лишилась того автономного статуса, которым она когда-то обладала. Скорее, культурное расширилось, чтобы поглотить всю социальную сферу, так что все стало культурным.
В эпоху постмодерна «критическая дистанция» вышла из моды. Это предположение, что культура может быть расположена вне «массивного Существа капитала», от которого зависят левые теории культурной политики.Джеймсон утверждает, что «потрясающая новая экспансия многонационального капитала в конечном итоге проникает и колонизирует те самые докапиталистические анклавы (Природа и Бессознательное), которые предлагали экстерриториальные и архимедовы точки опоры для критической эффективности». (Джеймсон 1993: 54)
Социальные науки [править | править источник]
В социологическом контексте можно сказать, что постмодерн сосредоточен на условиях жизни, которые в конце 20-го века стали преобладать в наиболее индустриальных странах.К ним относятся повсеместное распространение средств массовой информации и массового производства, объединение в национальные экономики всех аспектов производства, рост глобальных экономических механизмов и переход от производственной экономики к экономике услуг. По-разному описывается как консьюмеризм или, в марксистских рамках, как поздний капитализм: а именно контекст, в котором производство, распространение и распространение стали исключительно дешевыми, но социальные связи и сообщества стали более дорогими.
Социологический взгляд на постмодерн как на условие приписывает его более быстрой транспортировке, более широкому общению и способности отказаться от стандартизации массового производства, что приводит к системе, которая оценивает более широкий диапазон капитала, чем раньше, и позволяет хранить ценность в большее разнообразие форм.Дэвид Харви утверждает, что состояние постмодерна — это бегство от «фордизма», термина, придуманного Олдосом Хаксли в отношении «Дивного нового мира».
Артефакты постмодернизма включают доминирование телевидения и массовой культуры, широкую доступность информации, масс и телекоммуникаций. Постмодернизм также демонстрирует большее сопротивление принесению жертв во имя прогресса, включая такие черты, как энвайронментализм и растущее значение антивоенного движения.Постмодернизм в промышленно развитом ядре характеризуется растущим вниманием к гражданским правам и равным возможностям, как это видно со стороны таких движений, как феминизм и мультикультурализм, а также негативной реакцией на эти движения.
Теоретики, такие как Мишель Маффесоли, считают, что постмодерн разъедает обстоятельства, которые обеспечивают его существование, и это в конечном итоге приведет к упадку индивидуализма и рождению новой эры неоплеменных племен.
Как стилистический подход [править | править источник]
Основная статья Постмодернистская архитектура
Термин «постмодерн» используется, особенно в архитектуре и литературе, для обозначения стилистического подхода к формам и их использованию, берущего свое начало в 1950-х годах и продолжающегося до настоящего времени.
Общее использование [править | править источник]
В общем смысле постмодерн — это состояние или ответ на общество, которое развилось из модерна. Это может означать личный ответ на постмодернистское общество, условия в обществе, которые делают его постмодернистским, или состояние бытия, которое ассоциируется с постмодернистским обществом. В большинстве случаев постмодернизм не следует путать с постмодернизмом, который представляет собой осознанное принятие постмодернистских черт в искусстве, литературе и обществе.
Постмодернизм против постмодернизма [править | править источник]
Существует множество точек зрения на различия между постмодернизмом и постмодернизмом.
Одна позиция гласит, что постмодернизм — это состояние или состояние бытия, или он связан с изменениями институтов и условий (Giddens 1990), тогда как постмодернизм — это эстетическая, литературная, политическая или социальная философия, которая сознательно реагирует на постмодернистскую условий, или стремится выйти за рамки или критиковать современность.
Постмодерн, как утверждается, прошел две относительно разные фазы: первую фазу, начавшуюся в 1950-х годах и продолжающуюся до конца холодной войны, когда аналоговое распространение информации привело к резким ограничениям ширины каналов и способствовало появлению нескольких авторитетных источников. медиаканалы, а второе началось с взрывом кабельного телевидения, межсетевого взаимодействия и окончанием холодной войны, а также с распространением «новых медиа», основанных на цифровых средствах распространения информации и вещания.
Первая фаза постмодерна совпадает с концом модерна и многими рассматривается как часть современного периода (см. Комментаторы / сплиттеры, периодизация). В этот период наблюдался рост популярности телевидения как основного источника новостей, снижение значения обрабатывающей промышленности в экономике стран Западной Европы и США, увеличение объемов торговли в рамках развитого ядра. В 1967-1969 годах произошел решающий культурный взрыв в развитом мире, когда поколение бэби-бума, выросшее с постмодерном как фундаментальным опытом общества, потребовало вхождения в политическую, культурную и образовательную структуру власти.Серия демонстраций и восстаний — от ненасильственных и культурных до насильственных террористических актов — представляла оппозицию молодежи политике и взглядам прошлого века. Центральным в этом было противостояние войне в Алжире и войне во Вьетнаме; к законам, разрешающим или поощряющим расовую сегрегацию; и к законам, которые явно дискриминируют женщин и ограничивают доступ к разводу. Эта эпоха была отмечена резким ростом употребления марихуаны и галлюциногенов, а также появлением поп-культурных стилей музыки и драмы, включая рок.Повсеместное распространение стерео, телевидения и радио помогло сделать эти изменения заметными в более широком культурном контексте.
Этот период связан с работой Маршалла Маклюэна, философа, который сосредоточился на результатах жизни в медиа-культуре и утверждал, что участие в медиа-культуре затмевает реальный распространяемый контент и освобождает, поскольку ослабляет способность местных социальных нормативов.
Вторая фаза постмодерна видна по возрастающей мощи личных и цифровых средств связи, включая факсы, модемы, кабельное телевидение и, в конечном итоге, высокоскоростной Интернет.Это привело к созданию новой экономики, сторонники которой утверждали, что резкое падение информационных затрат коренным образом изменит общество. Самая простая демаркационная точка — это распад Советского Союза и либерализация Китая. Некоторое время считалось, что это изменение положило конец необходимости всеобъемлющего социального порядка, который Фрэнсис Фукуяма назвал «концом истории». Однако такие прогнозы в свете последующих событий сейчас многими кажутся крайне наивными.Межсетевое взаимодействие, в частности, кардинально изменило состояние постмодерна: цифровое производство информации позволяет людям манипулировать практически всеми аспектами медиа-среды, от исходного кода своих компьютеров до самого проекта википедии. Это состояние цифровизации привело производителей контента к конфликту с потребителями из-за интеллектуального капитала и интеллектуальной собственности.
В 1990-е годы разгорелись споры о том, было ли настоящее «высокой современностью» или постмодернизм следует рассматривать отдельно.В целом те, кто считает постмодернизм отдельным условием, признают переходный период, когда постмодернизм, иногда расставленный через дефис, является продолжением модерна.
В этот период начали утверждаться, что цифровость, или то, что Эстер Дайсон назвала «цифровым», возникла как отдельное условие от постмодерна. Те, кто придерживался этой позиции, утверждали, что способность манипулировать предметами массовой культуры, всемирной паутиной, использование поисковых систем для индексации знаний и телекоммуникации создают «конвергенцию», которая будет отмечена ростом «культуры участия». по словам Генри Дженкинса, и использование мультимедийных устройств, таких как Apple iPod.
Критику состояния постмодерна можно в общих чертах разделить на четыре категории: критика постмодерна с точки зрения тех, кто отвергает модернизм и его ответвления, критика со стороны сторонников модернизма, которые считают, что постмодернизм лишен важнейших характеристик модерна. проект, критики изнутри постмодерна, которые стремятся к реформе или изменениям на основе своего понимания постмодернизма, и те, кто считает, что постмодерн — это преходящая, а не растущая фаза социальной организации.
Критика антисовременности [править | править источник]
Многие философские движения отвергают современность и постмодерн как здоровые состояния бытия. Многие из них связаны с культурным консерватизмом и некоторыми ветвями христианского богословия. С этой точки зрения постмодерн рассматривается как отказ от основных духовных или природных истин, а упор на материальное и физическое удовольствие — это явный отказ от внутреннего равновесия и духовности.
Многие из этих критических анализов атакуют, в частности, воспринимаемый «отказ от объективной истины» как решающую неприемлемую черту постмодернистского состояния, часто с целью предложить метанарратив, который обеспечивает именно эту истину.
Однако эта критика иногда является результатом не веры в традиционные авторитеты, а, скорее, разумной веры в несоответствие того, что объективное знание должно быть либо доступно во всех областях, либо не может быть получено ни в какой области. Затем из того факта, что такие области, как физика и химия, не считаются всерьез субъективными или относительными в каком-либо значимом смысле большей частью постмодерна; отсюда следует, что этика, политика и хорошая жизнь в целом тоже не относительны или субъективны.Это мнение было упомянуто, среди прочего, Алланом Блумом.
Модернистская критика [править | править источник]
Критик Тимоти Бьюис назвал постмодерн «исторической вспышкой», «циничной реакцией» против Просвещения и прогресса современного проекта. Эта точка зрения, черты которой приписываются постмодерну, включая консьюмеризм, являются «китчем», и отказ от фундаментальной глубинной структуры и бескомпромиссный прогресс — это точка зрения, которую также нивелирует искусствовед Роберт Хьюз.Напротив, с этой точки зрения, постмодерн является второстепенным историческим моментом в более крупный современный период.
Джеймс Фаулер утверждает, что постмодерн характеризуется «утратой убежденности», и Гренц соглашается, говоря, что постмодерн — это период пессимизма, контрастирующий с оптимизмом современности.
Однако наиболее влиятельным сторонником этой критики является Юрген Хабермас, который утверждает, что все ответы на современность отказываются либо от критического, либо от рационального элемента в философии, и что постмодернистское состояние — это состояние самообмана по поводу незавершенной природы современный проект.Он утверждает, что без критических и рациональных традиций общество не может ценить личность и что социальные структуры будут стремиться к тоталитаризму. С его точки зрения, универсализм является фундаментальным требованием любой рациональной критики, и отказаться от него — значит отказаться от либерализирующих реформ последних двух столетий.
Затем этот аргумент расширяется, чтобы заявить, что постмодерн — это контрпросветление (см. Просвещение, современные ответы). Ричард Волин в своей книге «Соблазнение безрассудства » утверждает, что главные защитники постмодерна начинали с увлечения фашизмом.Это связано с теорией о том, что романтизм — это реакционная философия и что нацизм является результатом романтизма, широко распространенной точки зрения среди модернистских философов и писателей. Они утверждают, что культурная особенность и политика идентичности постмодерна, под которыми они подразумевают последствия приверженности постструктуралистским взглядам, — это «то, что было в Германии с 1933-1945 годов». Они также утверждают, что постмодерн требует принятия «реакционной» критики, равносильной антиамериканизму.Стивен Хикс в своей книге « Объясняя постмодернизм» расширяет это объяснение до истоков контрпросвещения в скептицизме Юма и Канта и антилиберализме Руссо.
Постмодернисты, в том числе Лиотар и Стэнли Фиш, видят проблему Хабермаса в том, что он стремится рационализировать универсализм, и что вся критика опирается на недостаточную веру модернистов в работу социальных механизмов. (См. Постэмпиризм).
Философы, такие как Ричард Рорти, рассматривают этот спор как спор между современной и постмодернистской философией, а не как связанный с состоянием постмодерна как таковым.Это также является результатом общего согласия обеих сторон в том, что современность уходит корнями в рационализированный набор ценностей Просвещения, которые были приписаны этому периоду ранним модерном.
(см. Также Гипермодерн)
Критика постмодерна [править | править источник]
Диапазон критики состояния постмодерна со стороны тех, кто в целом его принимает, довольно широк, и его невозможно легко резюмировать, поскольку дискуссии носят современный характер и продолжаются. Приведенный ниже список включает некоторые из них, которые вызвали споры и интерес, и его не следует рассматривать как исчерпывающий или исключительный.
Одна критика сформулирована так: «Будущее уже не то, чем было раньше». С этой точки зрения, мир, «обещанный» в конце 1960-х — начале 1970-х годов, еще не наступил, и вместо этого нынешнее воплощение общества почему-то менее привлекательно или, по крайней мере, менее продвинуто, чем «постмодернизм», предполагавшийся ранее.
Другая критика постмодерна изнутри высказана писателем Дэвидом Фостером Уоллесом, который утверждает, что тенденция к все более ироническому и референциальному выражению достигла предела и что требуется движение назад к «искренности», где художник действительно говорит то, что она намеревается принять за смысл.
- Андерсон, Перри (1998) Истоки постмодернизма, Лондон: Verso
- Гидденс, Энтони (1990) Последствия современности, Кембридж: Polity Press.
- Хикс, Стивен Р. С. (2004) Объясняя постмодернизм: скептицизм и социализм от Руссо до Фуко (ISBN 1592476465).
- Харви, Дэвид (1990) Состояние постмодерна. Исследование истоков культурных изменений, Oxford: Blackwell.
- Ихаб Хасан, От постмодернизма к постмодерну: локальный / глобальный контекст (2000), текст онлайн.
- Жан-Франсуа Лиотар (1924–1998) был французским философом и теоретиком литературы, широко известным после конца 1970-х годов своей приверженностью постмодернизму. Он опубликовал «La Condition postmoderne: Rapport sur le savoir» (The Postmodern Condition: A Report on Knowledge) (1979)
- Baudrillard, J. 1984. Simulations . Нью-Йорк: Полутекст (е).
- Берман, Маршалл. 1982. Все твердое растворяется в воздухе. Опыт современности . Лондон: Verso.
- Чан, Эванс. 2001. «Против постмодернизма и т. Д. — Разговор со Сьюзен Зонтаг» в Postmodern Culture , vol. 12 ч. 1, Балтимор: издательство Университета Джона Хопкинса.
- Дочерти, Томас, 1993. (ред.), Постмодернизм: Читатель , Нью-Йорк: Harvester Wheatsheat.
- Докер, Джон 1994. Постмодернизм и популярная культура: история культуры. Кембридж: Издательство Кембриджского университета.
- Иглтон, Терри. «Капитализм, модернизм и постмодернизм». Против зерна: Очерки 1975-1985 гг. . Лондон: Verso, 1986. 131–47.
- Фостер, Х. 1983. Антиэстетика . США: Bay Press.
- Фьюери, Патрик и Мэнсфилд, Ник. 2001. Культурология и критическая теория . Мельбурн: Издательство Оксфордского университета.
- Графф, Джеральд. 1973. «Миф о постмодернистском прорыве» в журнале Triquarterly , вып. 26, Winter 1973, стр. 383-417.
- Гренц, Стэнли Дж. 1996. Букварь по постмодернизму. Гранд-Рапидс: Эрдманс
- Хабермас, Юрген «Современность — незавершенный проект» (в Докерти там же)
- Хабермас, Юрген. 1981. пер. пользователя Сейла Бен-Хабиб. Современность против постмодерна . в V Taylor & C Winquist; первоначально опубликовано в New German Critique , no. 22, зима 1981 г., стр. 3-14.
- Джеймсон, Ф. 1993. «Постмодернизм, или культурная логика позднего капитализма» (у Дочерти, там же).
- Дженкс, Чарльз. 1986. Что такое постмодернизм? Нью-Йорк: Св.Martin’s Press и Лондон: выпуски Академии.
- Джойс, Джеймс. 1964. Ulysses . Лондон: Бодли-Хед.
- Лиотар, Дж. 1984. Состояние постмодерна: отчет о знаниях. Манчестер: издательство Манчестерского университета
- Мэнсфилд, Н. 2000. Субъективность: теории личности от Фрейда до Харроуэя. Сидней: Аллен и Анвин.
- Макхейл, Брайан. 1990. «Конструирование (пост) модернизм: дело Улисса» в стиле г. , т. 24 нет. 1, стр. 1-21, ДеКалб, Иллинойс: факультет английского языка Университета Северного Иллинойса.
- Палмери, Франк. 2001. «Помимо постмодерна? — Фуко, Пинчон, гибридность, этика» в Postmodern Culture , vol. 12 ч. 1, Балтимор: издательство Университета Джона Хопкинса.
- Пинкни, Тони. 1989. «Модернизм и теория культуры», введение редактора к Williams, Raymond. Политика модернизма: против новых конформистов . Лондон: Verso.
- Тейлор, V & Winquist, (редактор). 1998. Постмодернизм: Критические концепции (т. 1-2) .Лондон: Рутледж.
- Уил, Н. 1995. Искусство постмодерна: вводный читатель . Нью-Йорк: Рутледж.
- Simpson, J.A. и Weiner, E.S.C. 1989. Оксфордский словарь английского языка . Оксфорд: Clarendon Press; Нью-Йорк: Oxford University Press, 1989.
Исследования в области постмодерна [править | править источник]
пт: Постмодернизм pt: Pós-modernidade es: Posmodernidad
Постмодернизм — RationalWiki
Кампус Массачусетского технологического института, пример постмодернистской архитектуры«» Это сочетание нарциссизма и нигилизма, которое действительно определяет постмодернизм, и это еще одно интервью для другого раза, если оно вам интересно. |
| —Ал Гор [1] |
«» Странно для странности. |
| —Moe Szyslak. [2] |
Постмодернизм — это совокупность философских, литературных, культурных и художественных движений, которые сформировались в середине 20-х -х годов века. Он развился из критики модернистской архитектуры и продолжился философской критикой модернизма и разочарованием, которое привело к появлению среди европейских философов левого политического толка после Второй мировой войны, когда тоталитарные коммунистические правительства Восточной Европы стали все более неспособны скрывать свое недостойное поведение, и началась новая форма левой оппозиционной философии.С другой стороны, величайший художник постмодерна был родом из Питтсбурга.
Постмодернизм, судя по его названию, является реакцией на модернизм. Когда постмодернист чувствует, что на что-то можно разумно отреагировать, он реагирует; это означает, что это не одна связная вещь сама по себе и что она не реагирует на одну связную вещь. [примечание 1] Следовательно, многое из этого трудно понять, если вы не поймете , на что это реакция . Постмодернизм не является чисто культурным: он связан с современной экономической системой, известной как поздний капитализм, потребительский капитализм или неокапитализм, особенности которой включают транснациональные корпорации, средства массовой информации, современную систему глобальных финансов и потребление как форму самооценки. -определение. [4] [5] Для тех критиков, которые выступают против современного капитализма, есть две альтернативные точки зрения на постмодернизм: либо это отражение всех недостатков поверхностного, иррационального, жестокого и неустойчивого современного капитализма, либо мощный вызов этой несовершенной системе.
Вопреки тому, что говорят различные рационалисты и его причудливое место в качестве интеллектуального бугимэна нового тысячелетия, постмодернизм не состоит полностью из ерунды — это может быть полезным подходом при рассмотрении социальных явлений и художественных произведений, то есть, человеческая «культура».«Люди до смешного полны дерьма, и постмодернизм может быть полезен, чтобы указать на это. Однако, поскольку ему не хватает какого-либо единого или последовательного метода, собственный постмодернизм соотносится с реальностью, когда его применяют к эмпирическим усилиям, например, к науке. Кроме того, постмодернисты склонны отвергать объективную реальность как нечто, что может быть познано людьми, потому что человеческий разум и языки всегда стоят на пути. [6]
Определение, французское происхождение [править]
«» Мы существуем в разных эпистемологических парадигмах, ебли! |
| — Театр SMBC [7] |
Определение постмодернизма сложно, но этот термин обычно относится к набору методов, используемых теми, кто идентифицирует себя как постмодерн.Работа различных французских интеллектуалов породила движение: философ Жак Деррида, философ и историк Мишель Фуко и психоаналитик Жак Лакан.
Постмодернистов объединяет утверждение, что значение любого текста (где термин «текст» означает любую систему значений представления) конструируется контекстно и зависит от обстоятельств. Этот подход подчеркивает раздробленность и неоднородность социального, природного и литературного миров; на практике выявляются и критикуются внутренние презумпции и концепции, лежащие в основе любой идеологической системы.Кроме того, исторические и культурные контексты, в которых производятся знания, исследуются и часто отвергаются.
Современность против постмодерна [править]
Другое распространенное определение состоит в том, что оно отвергает «центральные нарративы» и вместо этого полагается на методологический плюрализм. Постмодернисты противопоставляют себя «современности» (которая сама задумана как продолжение Просвещения, в конечном итоге вплоть до противодействия ему), отвергая великие теории, которые пытаются «суммировать» знания.Постмодернисты отвергают телеологические и детерминистические объяснения исторических и социальных явлений. Это было реакцией на популярность детерминированных теорий в научной мысли в целом в течение 19 и начала 20 -х годов веков. Примеры исторического детерминизма включали концепции линейного развития обществ от небольших банд охотников-собирателей к «цивилизованным» государствам в антропологической мысли или от капитализма к коммунизму в марксистской мысли. Приложения биологического детерминизма к социальной политике, такие как научный расизм и евгеника, также (в какой-то момент) были включены в модернистскую мысль. [8]
Постмодернизм обычно определяет, что центральным нарративом современности является обещание прогресса, а также применение и первенство разума. Постмодернистская критика выявляет здесь несколько проблем:
- Сомнение в том, что прогресс может быть определено осмысленно, и, следовательно, отказ от понятия прогресса.
- Отказ от идеи, что все может быть осмысленно количественно определено и оптимизировано рациональным образом. Сосредоточьтесь на процессе рационализации (в социологическом смысле).
- Тенденция приложения науки к сциентизму.
- Этноцентрические концепции мира.
- Неспособность науки и технологий приравнять к социальному прогрессу, предположительно каким-то образом свидетельствовавшим о двух мировых войнах и холодной войне.
Юрген Хабермас, критик постмодернизма, утверждал, что современность не следует отвергать сразу, но что части постмодернистской критики должны быть включены в нее. [9]
Кто такой постмодернист? [Править]Термин «постмодерн» используется в названии книги Жана-Франсуа Лиотара «Состояние постмодерна» , , (1979), критики «мета-нарративов».«Однако многие мыслители, которых называют« постмодернистами », сами декларируют этот термин. Мишель Фуко, например, хотя и прочно ассоциировался с постмодернизмом другими учеными, отверг этот термин как самоописатель. [10] Таким образом, линия довольно размыта. (без сомнения, к радости постмодернистов) между теми, кто просто оказал влияние на постмодернизм, и теми, кто был постмодернистом. Философов, которые нападали на логический позитивизм, иногда смешивают с постмодернизмом. Томас Кун, например, часто группируется с этой школой мысли, хотя он утверждал его работа была широко неверно истолкована как подразумевающая радикальный скептицизм или полный релятивизм.Карл Поппер и Людвиг Витгенштейн позднего периода [11] (чьи ранние работы по иронии судьбы оказали влияние на логических позитивистов), однако, хотя и рассматриваются как влияющие, обычно не считаются частью постмодернистской школы, в то время как Пол Фейерабенд, чья первоначальные работы были опубликованы до чеканки срока, есть. Некоторые из наиболее важных работ по постмодернизму были выполнены писателями с марксистской точки зрения, такими как Дэвид Харви и Фредрик Джеймсон, [12] [13] , которых иногда примешивают к постмодернизму, несмотря на то, что они критикуют его. это как художественный, экономический и социальный феномен, находящийся под глубоким влиянием ненавистного им капитализма. [14]
Кроме того, фигуры и концепции, влияющие на постмодернизм, иногда путают с тем, что они являются продуктами самой постмодернистской мысли. Общая тенденция контрпросвещенческой мысли была систематизирована в 20, -м, -м веке Максом Хоркхаймером и Теодором Адорно в их «Диалектике Просвещения » , которая была плодотворной работой Франкфуртской школы. Концепция «рационализации» взята из работ Макса Вебера, который опубликовал большую часть своих работ более чем за полвека до постмодернизма.Ричард Рорти попытался отличить политические взгляды постмодернистов (часть «критических левых») от других левых («прогрессивных левых») в книге «Достижение нашей страны, ».
И снова по иронии судьбы, биологический детерминизм и эссенциализм, основные цели постмодернизма, изначально подвергались сомнению в рамках эволюционной теории, начиная с самого Чарльза Дарвина, в то время как понятия телеологии и эволюционного «прогресса», как правило, чаще появлялись в популярных и политических формулировках эволюция.
Структурализм, постструктурализм, деконструкция [править]
Постмодернизм, особенно во Франции, связан с тремя другими интеллектуальными движениями, так что их трудно разделить, хотя элементы всех из них связаны с постмодернизмом. [15]
Структурализм возник в конце 1950-х или начале 1960-х годов с такими фигурами, как Клод Леви-Стросс, Ролан Барт, и Мишель Фуко. Находясь под сильным влиянием Фердинанда де Соссюра и лингвистики и развивающейся дисциплины семиотики / семиологии, они отвергли более глубокие значения и считали, что точно так же, как язык является системой произвольных знаков (нет ничего собачьего в слове «собака» или « chien ». «или что-то еще), возможно, другие аспекты общества были аналогичными.Это означало новый подход к таким дисциплинам, как антропология, который сосредоточился на классификации и отображении взаимосвязей, а не на поиске более глубокого смысла.
Постструктурализм был реакцией на ограничения структурализма и увидел, что все якобы стабильные знаковые системы структурализма на самом деле постоянно меняются и всегда что-то упускают. Хотя это было определено как оппозиция структурализму, границы немного более расплывчаты, чем можно было бы предположить, и некоторые фигуры, такие как Барт, были связаны с обоими движениями.Он разделял со структурализмом некоторое пренебрежение или даже неверие в любой мир за пределами знаков; кроме того, он считал, что даже знаки нельзя принимать как должное. Ключевые фигуры включают Жака Деррида и дуэт Делёза и Гваттари. Многое из того, что первоначально называлось постструктурализмом, позже было присвоено ярлыком постмодернизма, даже если многие из его практикующих (например, Деррида) отвергают последний термин.
Деконструктивизм был постструктуралистской практикой, в значительной степени связанной с Жаком Деррида, который стремился выявить противоречия в знаковых системах посредством тщательного анализа (и экстравагантной риторики).Для Деррида и последователей это означало нападение на очевидно стабильное использование языка, часто в политических целях, чтобы оспорить или дискредитировать претензии более ранних авторов на истину. Другие мыслители, такие как Поль Де Ман , пытались объединить деконструктивизм с англосаксонской практикой внимательного чтения, формой литературной критики, чтобы попытаться придать интеллектуальную строгость изучению литературы. [16] Деконструктивизм с его атаками на истину считается центральным в постмодернизме, хотя это была лишь небольшая часть широкого диапазона постмодернистского письма и мысли, а термин деконструкция расширился до почти любой формы критики или ответа. к основным принципам независимо от его интеллектуальной основы.
Утилита [править]
Существует явная тенденция отвергать постмодернизм как бесполезный — своего рода пустой набор теорий, замаскированный непрозрачным жаргоном. Но в основе постмодернизма лежит теория, основанная на сущностной субъективности (а не на объективности) наших слов и правил, которые мы конструируем для управления нашим знанием. И серьезное исследование природы постмодернизма показывает, что эта теория может многое предложить нам, и ее плоды больше, чем часто приписываемое нигилистическое отрицание.
В некоторых отношениях беззаботное презрение критиков оправдано. Когда некоторые пытаются использовать постмодернистские инструменты для оценки объективных наук, таких как физика и биология, они редко находят то, что стоит прочитать. Хотя эти дисциплины связаны некоторыми произвольными правилами и в некотором смысле ограничены языком, проблемы этих ограничений редко игнорируются учеными. Таксономия, например, представляет собой целую систему частично произвольных классификаций, но систематики хорошо осведомлены об этом и постоянно предлагают изменения, чтобы компенсировать это: новообретенная четкость генома вызвала большие изменения в древе жизни и обеспечивает более надежное сито. различать и отвергать продукты конвергентной эволюции.Но постмодернизм критикует субъективные аспекты нашего знания, и такие инциденты, как дело Сокаля, показывают, как мало полезного материала можно найти в субъективном исследовании объективной науки.
Однако в гуманитарных и социальных науках постмодернизм может оказаться очень эффективной и проницательной теорией. Восприятие, что он очищает теоретическую таблицу одним взмахом руки и говорит: «Ну, на самом деле все это было ничто», не является точным. Скорее, он специализируется на рассмотрении того, как мы приходим к выводам, и как эти выводы строятся на основе материалов, которые в конечном итоге ненадежны.
Прекрасным примером является изучение литературы о короле Артуре. В течение многих лет теоретики литературы изучали различные произведения Артура Мэлори, Кретьена де Труа и других в поисках истинного текста. [примечание 2] Идея заключалась в том, что существовал единственный источник о короле Артуре, который давал основную часть некоторых историй или самого героя. Многие люди за эти годы встали на ту или иную сторону, аргументируя преобладание одной идеи об Артуре или тот факт, что одна сказка предшествовала другой в истории.Но постмодернист Жан Бодрийяр указал, что это был поиск, основанный на ложной предпосылке о том, что должно быть как urtext. Это ему подсказал постмодернистский подход.
Постмодернизм предполагает, что любое данное слово или набор значений происходит из неточного определения в терминах других значений, которые сами по себе неточны. Этот бесконечный круг домов на песке был назван Жаком Деррида, основателем постмодернизма, différance .И этот подход привел Бодрийяра к пониманию того, что истории о короле Артуре могли развиваться аналогичным образом, при отсутствии какого-либо единственного доминирующего источника.
Проблемы постмодернизма возникают тогда, когда сложность создания точного и непредвзятого набора значений явно или неявно доводится до нигилизма. Стоит отметить, что многие, а на самом деле большинство крупных постмодернистских мыслителей были сильно вовлечены в политику и не действовали в манере, совместимой с нигилизмом.Одним из основных объяснений этого феномена является идея Гаятри Спивак о «стратегическом эссенциализме», которая признает необходимость создания конструктов знания в конкретных практических ситуациях. Постмодернизм в его лучшей форме следует понимать не как утверждение, что ничто не является правдой или что все значения произвольны — скорее, его следует понимать как указание на то, что значение и истина подвержены изменениям и переопределениям с течением времени в зависимости от обстоятельств.
Любому хорошему писателю-беллетристу необходимо практическое знание постмодернизма, используют ли он это слово для обозначения этого слова или нет. [17]
Общая критика [править]
«» История: Воображаемая разработка, являющаяся языком, с помощью которого говорящий дискурс (языковая сущность) заполняет место субъекта высказывания (психологическая и идеологическая сущность)? |
Большая часть критики постмодернизма сосредотачивается на воспринимаемой нехватке субстанции в постмодернистском мышлении или на том, что критики считают центральными философскими недостатками в постмодернистском мышлении.К сожалению, на каждую разумную и эрудированную критику постмодернизма приходится еще один истерический приступ невежества.
Ответ придворного [править]
«» Джон Сирл однажды рассказал мне о разговоре, который он имел с покойным Мишелем Фуко: «Мишель, ты так ясен в разговоре; почему твои письменные работы так неясны?» На что Фуко ответил: «Это потому, что для того, чтобы французские философы восприняли всерьез, двадцать пять процентов того, что вы пишете, должно быть непонятной чепухой.»Я придумал для этой тактики термин в честь откровенности Фуко: эумердификация. |
| — Дэниел К. Деннет, из Разрушение заклинания [18] |
В то время как постмодернистские темы в литературе, которые имеют тенденцию к сюрреализму, оказались довольно успешными среди писателей, постмодернистская философия долгое время страдала от проблемы, которую чрезвычайно трудно сформулировать в конкретных терминах. Его сторонники утверждают, что нужно досконально разбираться в традициях западной философии, чтобы даже начать понимать жаргон, обычно используемый постмодернистскими писателями.По их образу мышления, прежде чем можно будет стать «постом», нужно понять «модернизм», против которого они себя определяют.
Напротив, его недоброжелатели предполагают, что неспособность (или отказ) сторонников четко изложить свою точку зрения — это просто попытка скрыть потенциально досадную несостоятельность. Это равносильно предположению, что постмодернисты дают ответ придворного: «Ну, вы просто не понимаете!» Нет сомнений в том, что это, по крайней мере, частично верно; постмодернизм находился под сильным влиянием французских философских школ конца 20-х, -х годов -го века, где сильный упор делается на риторический стиль и форму как неотъемлемые элементы аргументации, а такие практики, как академические ссылки, иногда отодвигаются на второй план как громоздкие в пользу теории. цитируемость, практика косвенного намека на или тщательного присвоения работы других, ожидая признания со стороны преданных учеников.
Ключевые фигуры постмодерна, такие как Жак Деррида, представляют стиль письма, который почти непонятен без большого знакомства, такова его плотность жаргона и риторическая уникальность. Вот, например, цитата из Of Grammatology , в которой автор подчеркивает (после многостраничного обсуждения различий в подходах между Жан-Жаком Руссо, Фердинандом де Соссюром и Луи Ельмслев ) тот факт, что фундаментальная относительность использования языка демонстрируется всегда исторически развивающейся природой языковых употреблений по отношению друг к другу:
«» С одной стороны, звуковой элемент, термин, полнота, которая называется чувственным, не появилась бы как таковая без различия или противопоставления, которое придает им форму.Таково наиболее очевидное значение обращения к различию как редукции звуковой субстанции. Здесь возникновение и функционирование различия предполагает изначальный синтез, которому не предшествует абсолютная простота. Таков был бы исходный след. Без удержания в минимальной единице временного опыта, без следа, сохраняющего другого как другого в одном и том же, никакое различие не будет работать, и никакого смысла не появится. |
| — Жак Деррида, по грамматологии |
Без знакомства с Руссо, Соссюром и Хемслевом и вне контекста этот абзац почти непонятен.Конечно, практически всегда существует необходимость в специализированном жаргоне в любой академической подобласти для удобного обозначения общих концепций или сложных идей. Биологи, например, в своих профессиональных журналах должны исходить из того, что их читатели разделяют понимание многих явлений и фактов, по крайней мере, в области биологии. [примечание 3] Но на определенных уровнях письмо, сильно нагруженное неясными, эзотерическими концепциями и фразами, становится просто кровосмесительным упражнением интеллектуальной мастурбации , в котором могут участвовать только посвященные, не доставляя ничего полезного за пределами жаргона — говорящая группа, если она вообще предоставляет что-нибудь общего.
Религиоведение и политика [править]
Постмодернизм — главный призрак среди болванов. Обычно он используется как взаимозаменяемый с моральным релятивизмом, марксизмом, социализмом и различными другими терминами, которые «остроконечные академики» любят использовать. Общая идея состоит в том, что постмодернизм ведет к «моральному разложению», подрывая библейскую мораль. [19] Это также предположительно часть секретных лагерей идеологической обработки либеральной академии. Таким образом, ярлык навешивается на ученых, независимо от того, постмодернисты они на самом деле или нет. [20]
Заявление консерваторов против постмодернизма иронично, учитывая, что их самих обвиняли в использовании его против областей исследования, которые им не нравятся. Французский постмодернист Бруно Латур , например, отметил, сколько разновидностей отрицания глобального потепления часто напоминают постмодернизм в своих атаках на авторитет климатологов, что заставило его сожалеть о своем участии в популяризации так называемых «научных исследований» и возразить. что ему и другим социальным теоретикам нужно приложить больше усилий для принятия эмпиризма. [21] Как отмечено ниже, креационисты также искренне приняли постмодернистские стили и тактику в своей «критике» эволюции.
Хомский [править]
Левый интеллектуал Ноам Хомский часто критиковал постмодернизм [22] и описывал его как «распространившуюся повсюду гниль» из Парижа и заявлял, что он «очень раздут» и «когда-то оказался трюизмом» его идеи воспроизводились «односложно». Он признает, что это, вероятно, не нанесет вреда «парижским кафе или [] Йельскому отделу сравнительной литературы», но неоднократно подчеркивал его пагубное влияние на активизм, особенно в странах третьего мира. [23] [24]
Кенгуру в суде [править]
В то время как постмодернизм часто считается относительно безобидным, когда применяется только к искусству, многим его приверженцам трудно не обращать в свою веру его мировоззрение за пределами этой области. Некоторые (возможно, более радикальные) постмодернисты пытались повлиять на закон, что привело к безумным интересным попыткам объявить основу демократического права в эпоху Просвещения расистским заговором среди белых людей, направленным на сохранение своей власти — все время утверждая, что рационализм есть нет оснований для вынесения приговоров. [25] Вместо этого они утверждают, что закон должен быть основан на неудачной попытке применить к нему субъективность, используя повествования и истории, чтобы повлиять на результаты.
Спасательная шлюпка Tankie [править]
| «» Когда пролетариат возьмет власть, вполне возможно, что пролетариат проявит к классам, над которыми он только что победил, жестокую, диктаторскую и даже кровавую власть. Я не понимаю, какие возражения можно было бы возразить. |
| —Майкл Фуко [26] |
Как отмечает Хомский, многие из наиболее хардкорных ранних постмодернистов были бывшими маоистами, которые перескочили с корабля на постмодернизм, поскольку прежняя точка зрения становилась все труднее придерживаться.В результате остается гиперпараноидальное крыло постмодернизма, в котором «белые люди» занимают традиционное место «капиталистических свиней» в их моделях, вдохновленных маоистами. Это может доходить до того, что современные приверженцы этого мировоззрения заявляют, что меньшинства, не согласные с их политикой, просто обманывают белых людей. [27]
Точно так же многие радикальные постмодернисты (особенно Фуко) осудили общие либеральные концепции прав человека, такие как концепция «справедливости», как простые попытки отвлечь массы.Очевидная легкость переключения между авторитарными коммунистическими и постмодернистскими интерпретациями может быть понята как общая вера в то, что человеческое общество — это одномерная игра с нулевой суммой между угнетателем и угнетенным, но с культурными, расовыми и гендерными проблемами, которые либо вытесняются, либо решаются. добавлены к экономическим. [28]
Например, постмодернист Шанталь Муфф описывает свое несогласие с либеральной демократией в пользу общества, в котором меньшинства (в отличие от большинства) обладают гораздо большей властью.Эта позиция пугающе напоминает утверждения коммунистов о том, что либеральная демократия была упадком по сравнению с «настоящей демократией» некой группы, осуществляющей власть от имени рабочего класса. [29] Этот импульс рефлексивно противодействовать западной демократии привел к тому, что такие политические соратники, как Майкл Фуко, высказались в пользу исламской теократии Ирана, а многие интеллектуалы из Новых левых поддержали революционеров-антиколониалистов из третьего мира, которые явно превращались в тоталитарных диктаторов. [30]
Обратите внимание, однако, что фраза «культурный марксизм» по-прежнему остается чисто чудаковатой теорией заговора. Хотя вышеупомянутое крыло постмодернизма более или менее придерживается авторитарного, радикального варианта политики идентичности, его приверженцы, тем не менее, не встречаются в кулуарах, читающих Das Kapital , и не проявляют особого интереса к подобному » коммунизм », изложенный Марксом или Лениным (который опирался на материалистический взгляд на мир, а не на социальный конструкционистский).Особенно забавно пытаться привязать эту версию постмодернизма к огромному еврейскому заговору, поскольку этот крайний вариант постмодернизма также заигрывал с антисемитизмом. [31] [32]
Включение и защита педофилии [править]
Многие выдающиеся французские постмодернистские «мыслители» подписали петицию в 1977 году, чтобы полностью отменить возраст согласия, такие как: Жиль Делёз, Феликс Гваттари, Жан-Франсуа Лиотар, Мишель Фуко, Жак Деррида и другие. [33] Многие из них также защищали в открытом письме в 1979 году троих мужчин, обвиняемых в изнасиловании детей по закону, утверждая, что: [34]
«Французский закон признает у 12- и 13-летних детей способность различать, которую он может судить и наказывать, но отвергает такую способность, когда речь идет об эмоциональной и сексуальной жизни ребенка. Он должен признавать право детей и подростков иметь отношения с кем бы то ни было «.
Скалистые отношения к науке [править]
Хотя постмодернизм чрезвычайно популярен в литературных кругах, а также имеет влияние в архитектуре, социальных науках и культурных исследованиях, его плотный стиль письма и приверженность релятивистской морали вызвали критику.Многие внешние литературные и философские круги (как либеральные, так и консервативные) отвергают доктринерский постмодернизм как претенциозный и интеллектуально ленивый; многие, особенно в научных областях, утверждали, что его теории являются формой отрицания, препятствующего теоретическому развитию.
Его попытки проанализировать научную практику оказались особенно противоречивыми (особенно в свете теплого приема в научном мире непостмодернистских философов науки, таких как Карл Поппер и Томас Кун).
В то же время, тем не менее, постмодернизм предоставляет инструменты для интерпретации человеческой деятельности, известной как наука. Это особенно полезно при изучении его истории, роли в культуре и, в некоторых случаях, интеллектуальной основы. [35] Возможно, некоторых ученых беспокоит то, что постмодернисты считают, что большая часть того, что они делают, является социальной конструкцией. Более того, многие постмодернисты склонны ставить под сомнение концепцию «истины», а некоторые даже заявляют, что научный метод сам по себе является социальной конструкцией, поскольку его развитие происходит в определенной культуре и в определенное время. [36] [37] Более того, некоторые недавние работы в области исследований науки и технологий (STS) были пионерами постмодернистских авторов, обладающих всесторонним научным образованием, таких как Донна Харауэй (доктор биологических наук, Йельский университет). [38] ) и Н. Кэтрин Хейлс (MS Chemistry, Caltech [39] ).
Работа Харауэя сосредоточена на анализе того, каким образом определенные предположения о природе науки и общества влияют на построение экспериментальных и теоретических работ в биологических науках, и на предложении новых модельных предположений или метафор, которые могут быть использованы для лучшего понимания тоже самое.Работа Хейлса заключалась в изучении способов, которыми последние разработки в области медиа, таких как гипертекст, компьютеризованное хранение и передача, изменяют содержание и использование литературы, а также в изучении того, как определенные ограниченные метафоры или предварительные аналогии способствуют развитию конкретных теоретических приложения в первые годы теории информации, информатики и кибернетики необъяснимо выросли со временем до неявного принятия обобщенных убеждений или предположений о природе информации, интеллекта, тел и поведения.Это может помочь науке в долгосрочной перспективе, а не навредить ей.
Тем не менее, слишком многие постмодернисты занимаются распространением обскурантской чуши, «понятой» только самим PoMos: [40]
Когда Лакан путает иррациональные и мнимые числа, когда Кристева неправильно понимает аксиому выбора, мы не можем, как утверждается, думать, что заблуждения изолированы; ни то, что их очень много. Скорее, это утверждение состоит в том, что путаница и парад непонятной научной терминологии или поверхностной эрудиции призваны произвести впечатление и являются неотъемлемой частью предприятия, которое безразлично к реальному содержанию используемых концепций …
Многим темам в физике, логике и математике теперь соответствует отчетливая парижская болезнь, паразитирующая на терминологии, свойственной этой теме.Его главный симптом — это склонность изрыгать порции соответствующего жаргона более или менее случайным образом.
Дело Сокаля [править]
| «» Любой, кто провел много времени, пробираясь сквозь набожные, обскурантистские, полные жаргона брань, которая теперь сходит за «продвинутую» мысль в гуманитарных науках, знал, что это должно было произойти рано или поздно: какой-нибудь умный ученый, вооруженный не такие уж секретные пароли («герменевтика», «трансгрессивный», «лаканианский», «гегемония», и это лишь некоторые из них) написали бы полностью фальшивую статью, отправили ее в журнал au courant и приняли … В статье Сокала используются все правильные термины.Он цитирует всех лучших людей. Он бьет грешников (белых мужчин, «реальный мир»), аплодирует добродетельным (женщины, общее метафизическое безумие)… И это полная, настоящая чушь — факт, который каким-то образом ускользнул от внимания влиятельных редакторов Social Text , который, должно быть, сейчас испытывает тошнотворное ощущение, которое поразило троянцев на следующее утро после того, как они затащили в свой город этого милого большого подарочного коня. |
| —Гэри Камия [41] |
Некоторые постмодернисты не совсем понимают, что на самом деле существует такая вещь, как реальность, которая не является просто культурным артефактом, и ее не волнует, что вы о ней думаете.Это может привести к некоторому замешательству.
Особо следует отметить дело Сокала 1996 года, в котором физик Нью-Йоркского университета Алан Сокал представил и опубликовал статью под названием «Преодолевая границы: к трансформирующей герменевтике квантовой гравитации» [примечание 4] в литературном журнале Социальный текст . Документ был задуман Сокалом как бессмысленный и нелепый. Например, он утверждал, что гравитация была социальной конструкцией. [42] Однако неясно, как это «опровергает постмодернизм», как утверждают некоторые, [43] [44] несмотря на все, что продемонстрировало дело Сокаля, было тем одним конкретным журналом, тем, который в то время не Даже практика коллегиального обзора, [45] опубликовал одну конкретную статью-мистификацию.Это не совсем окончательный аргумент против самого постмодернизма.
В результате этого дела Social Text был удостоен сомнительной награды Шнобелевской премии по литературе за «нетерпеливую публикацию исследования, которое они не могли понять, которое, по словам автора, было бессмысленным, и которое утверждало, что реальность не существовать.» [46]
Включение псевдонауки [править]
Некоторые деятели, находящиеся под влиянием постмодернизма, такие как Филлип Джонсон [47] и Стив Фуллер, [48] , использовали его риторическую тактику для продвижения креационизма разумного замысла.Было также установлено, что Рик Санторум использовал их для атаки своих противников, [49] , что может оказаться лучшим предлогом для создания реального измерителя иронии.
Фигуры постмодернизма иногда открыто защищали лженауку. К сожалению, их энтузиазм по поводу критики господствующих представлений об общепринятом мышлении иногда перерастал в невежественное общее принятие всех видов мятежной «науки». Фейерабенд использовал свою концепцию «эпистемологического анархизма», чтобы прикрыть креационизм, астрологию и альтернативную медицину. [50] Сопротивление биологическим объяснениям поведения было названо «секулярным креационизмом». [51] Хотя это и не обвинение в критической полезности постмодернизма, это показывает, что существует опасность в поддержке инакомыслия ради инакомыслия.
В другом примере известный критик Жак Лакан подвергся критике за попытку реанимировать фрейдистский психоанализ, большая часть которого в современной психологии считается псевдонаучной. [52] [53] Он потерпел неудачу, к большому облегчению для всех (за исключением, к сожалению, в его родной Франции, где его идеи трагично последовали и где до сих пор трудно критиковать его интеллектуальное мошенничество. без обвинений в фашизме).С другой стороны, многие постмодернистские мыслители категорически отвергают фрейдизм. Пожалуй, наиболее примечательно то, что Жиль Делёз и Феликс Гваттари являются соавторами книги Anti-Oedipus , основательной и систематической критики влияния Фрейда и Лакана на гуманитарные науки и политическую культуру. Многие другие мыслители, такие как Славой Жижек, используют психоаналитические идеи таким образом, который сознательно не соответствует их ортодоксальной интерпретации.
В целом постмодернисты также критически относятся к господствующей психологии, которую Мишель Фуко, Джудит Батлер и многие «квир-теоретики» описывают как порождающую культурные предубеждения в отношении пола и сексуальности в частности.С тех пор эта позиция была укреплена многими не-постмодернистскими академиками, такими как Кристофер Райан и Касильда Джета, авторы книги Sex at Dawn . К сожалению, многие молодые и / или впечатлительные студенты неправильно понимают более законную критику наук постмодернизмом, которая часто невольно поддается дилетантизму, аргументам соломенных людей и откровенно ошибочному пониманию научной терминологии. Склонность постмодернизма к эллиптическому утверждению и его нежелание явно определять свою терминологию, несомненно, усиливают эту тенденцию, которой в противном случае можно было бы легко избежать.
Тенденции мультикультурализма в постмодернизме позволили разного рода ухаживаниям, связанным с коренными народами и группами меньшинств. Это включает в себя псевдоисторию и псевдоархеологию, такую как афроцентризм. В эти идеи иногда импортируется болтовня нью-эйдж, как, например, в «ву» коренных американцев. Есть опасность в готовности многих постмодернистов поощрять любой вызов господствующей мысли — не на основании аргументов или доказательств, а просто из-за чрезмерного энтузиазма по поводу любой контркультуры .
Постсекуляризм [править]
Постсекуляризм — это пустой термин, который радикальные апологеты и безнадежные постмодернисты используют без единого мнения о том, что он на самом деле означает. То немногое, что можно повсеместно почерпнуть из различных почти непонятных книг, написанных по этой теме, так это то, что любой секуляризм, как он есть / был, не является силой перемен и либеральной терпимости, как «нарратив», который, по мнению секуляристов, есть и что секуляризм умирает ( или никогда не существовало).
Недобор [править]
Континентальные философы [ Кто? ] утверждают, что работа Хабермаса и Чарльза Тейлора о постсекуляризме лежит в основе дебатов о секуляризме в Европе.На самом деле это не так. Хабермас и Тейлор находятся в центре постсекуляристских дебатов, в то время как секуляристы и большинство религиозных людей почти не обращают внимания на то, что они говорят. Однако постсекуляристский стереотип никуда не денется. Например, выступление на TEDx говорит о постсекуляристском городе, в то время как крупные либеральные газеты рецензировали обе ранее упомянутые книги с непостижимо положительным откликом.
Пытаюсь понять, что это значит [править]
В большинстве работ используется термин «светский экстремизм», как будто это не оксюморон.Приведенные примеры экстремизма обычно связаны с французским запретом ношения паранджи и запретом ношения головных платков в бельгийских государственных школах. В то время как светский аргумент утверждает, что использование паранджи, с одной стороны, продолжается как инструмент женского угнетения и религиозного порабощения и его необходимо прекратить, он также исходит из аргумента, что закрытие всего лица может быть опасным, независимо от того, закрывается ли оно. светский или религиозный характер (человек, ходящий в лыжной маске, будет замечен с подозрением и, возможно, остановлен полицией).Постсекуляристский аргумент утверждает, что запрет паранджи на самом деле является примером светских угнетений, вынуждающих людей отказаться от своих священных нарративов, древних кодексов одежды, чувства достоинства и скромности (вместо того, чтобы иметь женщин добровольно или нет, скрывать их телесный стыд под тканевой тюрьмой всякий раз, когда они находятся на публике, чтобы не спровоцировать мужчин на их изнасилование). Они также утверждают, что требование общественной безопасности является лишь предлогом для принуждения религии к произвольному мировоззрению секуляристов, которые уже сделали это через систему образования (цензура религиозных взглядов в учебных материалах), политику (чрезмерное применение отделение церкви от государства) и осуждение религии как преимущественно фундаменталистской и отсталой.Следует отметить, что полное ношение паранджи было запрещено в некоторых мусульманских странах, возможно, чтобы избежать использования террористами-смертниками маскировки для облегчения доступа к местам, заполненным мирными жителями, а также для противодействия тому, что они считают радикальной интерпретацией исламского дресс-кода.
Еще один ход, который можно найти в некоторых постсекуляристских статьях, — это критика идеи светского прогресса как неизбежного. Хотя прогресс не является неотъемлемой чертой секуляризма (по крайней мере, не является идеей неизбежности прогресса), он подвергается нападкам по нескольким причинам.Прогресс рассматривается как иллюзия, и что прогресс для секуляристов — это просто прогресс, каким его хотят секуляристы. Более того, общества всегда видели свои взлеты и падения в социальном прогрессе, и секуляризм никогда не может гарантировать, что прогресс будет продолжаться бесконечно (хотя утверждать это означало бы признать, что прогресс на самом деле возможен). Критика секуляристской мантры прогресса — это, по сути, соломинка (изображать всех секуляристов идеалистами, которые считают, что социальный и политический прогресс является историческим и постоянно развивается в более свободное и лучшее общество).Многие секуляристы не согласятся с тем, что прогресс является историческим, неизбежным или даже главной целью секуляризма. Вместо этого целью является более широкое применение прав для всех, более широкое использование разума в образовании и политике и минимизация религиозного влияния в общественной сфере. Прогресс — это либо вероятный результат этого, либо для других иллюзия, да и главное.
Некоторые постсекуляристы также заявляют, что на Западе наблюдается возрождение религии и что некоторые из них являются фундаменталистскими (как реакция на секуляризм).Они расходятся во мнениях относительно того, хорошо это или плохо. Однако явная тенденция (по крайней мере, в опросах) на Западе показывает неоспоримое снижение религиозных убеждений и тот факт, что фундаментализм в религии изолирован от протестантских общин в англоязычных странах (в первую очередь, США и Великобритания) и от общин религиозных меньшинств. Законы, запрещающие старые религиозные ограничения социальных ограничений (например, однополые браки, развод, работа по воскресеньям и т. Д.), Также становятся все более распространенными в западных странах.Возможно, фундаментализм — это не вынужденная реакция на секуляризм, а, скорее, реакция на безумных религиозных лидеров и безумие суеверной иррациональности с самого начала.
Неопределенность — плохая вещь вне художественной литературы [править]
Утверждается, что отсутствие четкого определения того, что такое постсекуляризм, является одной из его самых сильных сторон. Это обычное дело для большинства постмодернистских троп (как и для большинства пост-всего). Отсутствие каких-либо четких определений, дикие разногласия, нечеткие доказательства, грандиозные утверждения и нерациональная структура являются обычными явлениями в постструктурализме, постфеминизме, постгуманизме, пост-бла-бла-бла и так далее.Скорее всего, постсекуляризм исходит от религиозных мыслителей (обратите внимание, что два наших автора являются религиозными апологетами), которые сетуют на исчезновение определенных репрессивных христианских «ценностей» в демократических обществах и как реакцию на уменьшение внимания, которое люди уделяют религии помимо религии. фундаменталистское безумие.
См. Также [править]
Внешние ссылки [править]
- Википедия о постмодернизме
- Запись в Стэнфордской энциклопедии философии
- Постмодернизм и его критики, Дэниел Салберг и др., Университет Алабамы
- Руководство по современной теории, критической теории и постмодернистской мысли, Мартин Райдер, Колорадский университет в Денвере,
- Ноам Хомский о постмодернизме
- Ричард Докинз о постмодернизме
- Дэниел Деннет о постмодернизме
- Питьевая игра постмодернизма
- Как говорить и писать постмодерн, Стивен Кац
- Гуманизм и постмодернизм, Гуманизм сегодня , т.8, 1993
- Постмодернизм может быть хорошим. Иногда.
- Metal Gear Solid 2 считается первой постмодернистской видеоигрой, если это что-то значит. [примечание 5]
- Если вы записались на курс постмодернизма и у вас не было времени писать свои статьи самостоятельно, потому что вы изучали биологические эффекты этанола на человеческую печень, посмотрите постмодернистский генератор эссе.
Библиография [править]
- Антонио, Роберт Дж.и Дуглас Келлнер. Постмодернистская социальная теория: вклад и ограничения. В Постмодернизм и социальное исследование , под редакцией Дэвида Диккенса и Андреа Фонтана. Нью-Йорк: Guilford Press, 1994: 127-152.
- Докинз, Ричард. «Постмодернизм раздевался», Nature , 1998. Обзор книги Сокаля и Жана Брикмонта Impostures Intellectuelles (опубликованной как Intellectual Impostures в Великобритании и Fashionable Nonsense в США). Представляет аргумент, что постмодернистские философы не только ужасно запутывают, но и мешают им, когда имеют дело с наукой.
- Редакторы Lingua Franca , Обман Сокала: обман, потрясший Академию . Линкольн, штат Невада: University of Nebraska Press, 2000, ISBN 0803279957.
- Хаген, Л. Кирк, «Смерть философии», Skeptic Magazine 11: 4 (2005), с. 18. Яростная атака на наследие Деррида.
- Шакель, Николас (2005). «Пустота постмодернистской методологии», Метафилософия т. 26 (3), стр. 295-320. Веселое устранение наиболее часто используемых постмодернистских тактик обфускации.
- ↑ Это сделало бы Куинси Адамса Вагстаффа из фильма братьев Маркс 1932 года « Конские перья» одним из прародителей постмодернизма:
Примечательно, что «конские перья» — это синоним чуши.«» Меня не волнует, что они говорят.
Все равно без разницы.
Как бы то ни было, я против! [3] - ↑ Исходный текст, из которого были взяты остальные.
- ↑ Более того, грех нечитабельности не является универсальным среди постмодернистов, и все большее внимание уделяется ясности и прямоте в исследованиях постмодерна.
- ↑ Одного названия должно было быть достаточно, чтобы показать, что газета была подделкой.
- ↑ Это хорошо, но история непонятна, если вы не играли в другие игры серии. (Винить Кодзиму.)
Ссылки [править]
- ↑ Интервью в New York Observer , ноябрь 2002 г.
- ↑ Симпсоны , «Мо Гомер».
- ↑ (Что бы это ни было) Я против! Поет Граучо Маркс; из фильма «Конские перья» (1932) YouTube .
- ↑ См. Статью в Википедии о позднем капитализме.
- ↑ Постмодернизм; или, Культурная логика позднего капитализма, Фредерик Джеймсон, Verso, 1991
- ↑ Постмодернизм Британская энциклопедия .
- ↑ Обе стороны, Театр SMBC
- ↑ Страница По-Мо, Джорджтаунский университет
- ↑ Юрген Хабермас. Современность против постмодерна. New German Critique , No. 22, Special Issue on Modernism. (Зима, 1981), стр. 3-14. (пер.Сейла Бен-Хабиб)
- ↑ Фуко — постмодернист? Скотт Мур (13 июля 1995 г., 11:47:09 -0600) Список рассылки Foucault-L .
- ↑ Ганс Юлиус Шнайдер. Витгенштейн и постмодернизм: специфика. 1997 После конференции постмодернизма, Потсдам.
- ↑ Дэвид Харви, Состояние постмодерна: исследование истоков культурных изменений , 1991
- ↑ Фредрик Джеймсон, Постмодернизм: Или, Культурная логика позднего капитализма , 1991
- ↑ Марксизм и постмодернизм, Фредрик Джеймсон, New Left Review, июль-август 1989 г.
- ↑ Мягкое введение в структурализм, постмодернизм и все такое, Джон Манн, Philosophy Now, 1994
- ↑ Дело Де Мана, New Yorker, 24 марта 2014 г.
- ↑ См. Статью в Википедии о постмодернистской литературе.
- ↑ Разрушение заклинаний: Религия как естественный феномен Дэниел К. Деннет (2006) Викинг. ISBN 067003472X. п. 4045n12.
- ↑ См. В качестве примера «размашистую» восьмичастную критику американского Вонючего «Постмодернизм и Библия».
- ↑ Снова посмотрите на «Американскую вонючку», чтобы увидеть, как Ноам Хомский (давний критик постмодернизма) запятнан как постмодернист.
- ↑ Латур, Бруно. «Почему критика исчерпала себя? От фактов к вопросам, вызывающим озабоченность.»
- ↑ Хомский о постмодернизме
- ↑ Хомский о науке и постмодернизме, Интервью загружено 25 апреля 2011 г.]
- ↑ Хомский о постмодернизме 6 июня 1997 г.
- ↑ Рецензия на книгу Beyond All Reason: Радикальное нападение на истину в американском законе Дэниела А. Фарбера и Сюзанны Шерри (1997) Oxford University Press, Дейл Джеймисон (1997) The New York Times .
- ↑ Фуко против Хомского: дебаты 1971 г. (18 апреля 2015 г.) Социал-демократия для 21 века: реалистическая альтернатива современным левым .
- ↑ Победа — это еще не все, победа вашей команды — Разиб Хан (1 октября 2016 г.) The Unz Review .
- ↑ Ой, хорошо, сейчас 2016 год, и мы спорим о том, работает ли марксизм Джонатан Чейт (30 марта 2016 г.) Нью-Йорк .
- ↑ «Почему я не постмодернист» Эдварда Р. Фридлендера (30 января 2005 г.) Патолог .
- ↑ Иранское безумие Мишеля Фуко, Джереми Стэнгрум (15 октября 2015 г.) The Philosophers ‘Magazine .
- ↑ Рецензия на книгу: Евреи, правда и теория критических рас: вне всякой причины: радикальное нападение на истину в американском праве. Авторы Дэниел А. Фарбер и Сюзанна Шерри. Oxford University Press, 1997. Эдвард Л. Рубин (1999). Northwestern University Law Review (архив от 3 ноября 2016 г., 08:24:47 UTC).
- ↑ Нарушение закона: радикальные мультикультуралисты отравляют умы молодых юристов? Алекс Козинский (2 ноября 1997 г.) The New York Times .
- ↑ http: // www.dolto.fr/fd-code-penal-crp.html
- ↑ https://www.theguardian.com/world/2001/feb/24/jonhenley
- ↑ Из программы STS в Университете Висконсина.
- ↑ Стивен Шапин и Саймон Шаффер, Левиафан и воздушный насос: Гоббс, Бойль и экспериментальная жизнь , 1985 Princeton University Press.
- ↑ Наука как социальная конструкция, UT Остин
- ↑ Донна Харауэй, Биографическая справка
- ↑ Н. Кэтрин Хейлс, Биографическая справка
- ↑ Рецензия на книгу: Impostures Intellectuelles Алана Сокаля и Жана Брикмона (1998) Одиль Джейкоб Кевина Маллигана (1998) naturalSCIENCE (архив от 15 апреля 2001 г.).
- ↑ Постмодернизм, разоблаченный Ричардом Докинзом (1998) Nature 394: 141-143.
- ↑ Оригинал статьи «Дело Сокаля».
- ↑ The One Time Alan Sokal Completely Destroyed Postmodernism (3 июня 2017 г.) YouTube .
- ↑ Что смелая мистификация раскрывает об академических кругах: Трое ученых написали 20 фальшивых статей, используя модный жаргон, чтобы привести доводы в пользу нелепых выводов. Яша Моунк (5 октября 2018 г.) The Atlantic .
- ↑ Mystery Science Theater (1996) Lingua Franca .
- ↑ Лауреаты Шнобелевской премии
- ↑ Пеннок о постмодернизме в ID Creationism, The Panda’s Thumb
- ↑ Болезненная разработка фатального, Skeptic
- ↑ Народники, говорящие (относительную) правду, The Globe and Mail
- ↑ Как не быть Фейерабендом, Развивающиеся мысли
- ↑ Барбара Эренрайх и Джанет Макинтош. Новый креационизм. The Nation , 9 июня 1997 г.
- ↑ Раймонд Таллис.Убежище из ада. The Times Higher Education Supplement , 31 октября 1997 г., стр. 20.
- ↑ Культ Лакана, Ричард Вебстер
The Wiki-Effect: почему постмодернизм не является релятивизмом | Франсиско Мехиа Урибе | Постмодернистская перспектива
Я определил постмодернизм как особую перспективу, в которой мы никогда не отказываемся от осознания того, что жизнь — это путешествие интерпретаций. Постмодерн — это тот, кто, учитывая его воздействие на множество мировоззрений, приобрел это своеобразное сознание и, следовательно, занимает «более мягкую» позицию по отношению к своим собственным убеждениям.У нас, постмодернистов, как и у всех остальных, есть убеждения, стремления и мы используем слова «истинный» и «ложный». Единственная разница в том, что, думая или говоря как таковые, мы никогда не отказываемся от сознания, что эти убеждения, эти стремления и эти истины всегда подвержены изменению, всегда. Почему это так? Почему мы такие «мягкие» по отношению к своим убеждениям? Как я утверждал ранее, это сознание является историческим результатом жизни в мультикультурных, плюралистических и демократических обществах, где мы постоянно подвергаемся воздействию средств массовой информации (телевидение, Интернет, реклама, политическая пропаганда), нашей глобализированной экономической реальности и массовых миграционных движений. бесконечному разнообразию индивидуальных присвоений человеческого опыта.Просто так случается, что это наша структура, и поэтому наши умы негативно реагируют на любое предприятие, которое хочет исправить то, что на самом деле , раз и навсегда.
Теперь, учитывая такое понимание состояния постмодерна, неудивительно, что мы, постмодернисты, постоянно рассматриваемся как пойманные в ловушку неизбежного релятивизма или некоторой формы анархии. Такое восприятие — полное непонимание самой постмодернистской перспективы. Позвольте мне начать с того, что обвинители правильно поняли.Верно то, что мы, постмодернисты, против концепции «истины», понимаемой как идея или словесное выражение того, чем на самом деле являются вещи. По причинам, о которых я упоминал выше, вся эта идея «истины» как фиксации — схватывания конечной реальности — шокирует наше множественное число. В этом смысле «истина» для нас — это не название тех представлений или предложений, которые получают то, чем на самом деле являются , потому что — по разным причинам — мы отказались от этого проекта.
Напротив, то, что мы, постмодернисты, называем «истиной», представляет собой серию убеждений, которые — с учетом правил игры каждого мировоззрения — удовлетворяют условиям, которые мы установили в социальном плане для того, чтобы что-то было правдой. Чтобы что-то было правдой, должны быть условия, чтобы это было правдой, и эти условия всегда устанавливаются социально в рамках общего словаря или образа жизни. В рамках тех правил, которые мы установили, вещи действительно истинны, в этом нет никакого релятивизма или анархии.Мы, постмодернисты, осознали, что структура, в которой что-то является или не является истиной, всегда изменяется и приспосабливается к созданию систем «истин», которые лучше подготовят нас к тому, чтобы справляться с нашими постоянно меняющимися историческими условиями. В этом смысле мы, постмодернисты, прагматичны, но не прагматичны в отношении дискретных примеров истины, прагматичны в отношении правил, которые мы устанавливаем как общество и которые ограничивают границы, в которых что-то считается или не считается «истинным».
Правила игр, в которые мы играем в жизни, кодифицируют то, что считается «истинным», а что — нет.Даже в науке — там, где мы должны позволить фактам говорить сами за себя, — существуют правила того, что является, а что не принимается в качестве достоверного научного аргумента, и эти правила явно менялись со временем и в месте. Тогда «истина» зависит от нашего исторического контекста, но в то же время кодифицируется и проверяется в определенных границах определенного мировоззрения, языковой игры или общего словаря. Эта двойная природа постмодернистского переживания «истины» — это то, чего не могут понять наши критики.Они думают, что как только мы открываем дверь случайности и истории и отрицаем абсолютную ценность «истины», мы становимся неизбежными жертвами релятивизма; как мало они верят в способность мужчин здраво рассуждать и устанавливать правила, даже если в них нет другой цели, кроме как направлять и улучшать наш коллективный человеческий опыт. Если нет абсолютной истины, — спрашивают они, — какой смысл действовать таким-то и таким-то образом? Что ж, дело как раз в том, что нам нужно оставаться в живых (с абсолютной истиной или без нее), и поэтому нам нужно согласовать лучший план для этого и установить его правила.
Именно поэтому мы, постмодернисты, больше беспокоимся о свободе и политике, чем о том, что такое на самом деле. Мы убеждены, что лучший способ разработать лучшие планы согласования наших исторических условий с нашим человеческим существованием — это открыть беседу для как можно большего числа участников. Если правила игры должны быть установлены коллективно, давайте предоставим слово как можно большему количеству участников и позволим каждому участвовать в социальном (и постоянном) построении того, что считается истиной.Процитируем прекрасные слова Ричарда Рорти: давайте «позаботимся о свободе, и истина заберет сама себя».
Для меня Википедия — это живая реализация изречения Рорти и парадигматический пример постмодернистского опыта «истины». Чем больше мы расширяем и открываем участие в беседе, тем лучше мы получаем результаты в построении нашего коллективного опыта «истины» и тем лучше мы справляемся с общими заботами. Википедия — это динамичный организм, который показывает, как изменения исторических условий в сочетании с широким участием могут привести к новым интерпретациям того, что считается истинным, а что — нет.Интернет открывает двери для осознания полностью диалогического сообщества, и «правда» как никогда прежде обнажает его разговорный, управляемый сообществом и адаптивный характер.
Невероятная ценность Википедии не в ее содержании; это пример, который он подает в отношении разговорной природы «истины», или, другими словами, ее участия в качестве активного селекционера постмодернистской перспективы. Для нас, постмодернистов, более важным, чем обнаружение того, что есть на самом деле, является создание общества, осознающего изменчивую и говорящую природу истины; только общество, которое освобождает себя от собственных «истин», действительно может называться свободным, а для меня это общество еще предстоит реализовать.
Постмодернистская архитектура — Designing Buildings Wiki
Постмодернистская архитектура , также известная как постмодернизм (или «помо»), — это архитектурный стиль, возникший в конце 1960-х годов как реакция на модернизм.
Модернистская архитектура столкнулась с растущей критикой за ее жесткие доктрины, единообразие и отсутствие местного и культурного контекста. Были также те, кто высмеивал модернизм Ле Корбюзье и Людвига Мис ван дер Роэ за то, что он был слишком мрачным, формальным и строгим.
Провал строительных методов и материалов, такой как обрушение Ронан-Пойнт в 1968 году и постепенное ухудшение состояния когда-то «утопических» жилых комплексов, также способствовали негативной реакции на модернизм.
В 1966 году архитектор и теоретик Роберт Вентури опубликовал книгу «Сложность и противоречие в архитектуре», ставшую катализатором постмодернистского движения. Вентури утверждал, что древние города Рима говорили скорее историческими слоями и яркими сопоставлениями, чем одним однородным голосом.Он также утверждал, что здания, а также спроектированные объекты, были подвигом размещения и должны стремиться учитывать местные условия соседства и общественного поведения; такой же индивидуальный и богатый, как и сами обитатели дома.
На практике, постмодернистская архитектура отошла от жестких формальностей модернизма и начала включать стилистические отсылки, которые часто были игривыми и символическими, с использованием таких техник, как форма, цвет и trompe l’oeil; применение элементов и структурных форм от классической архитектуры до современного дизайна.
Постмодернистская архитектура обычно характеризуется высокой декоративностью, причудливостью и эстетикой китча; Прежде всего, отказ черпать вдохновение исключительно из одного источника и часто ставя во главу угла форму, а не функцию. Он также носит метафорический характер. Это относится к конструктивным решениям, основанным на неархитектурных формах. Хорошо известным примером является храм Лотоса в Нью-Дели, который имеет форму цветка лотоса; и Сиднейский оперный театр, вдохновленный парусами кораблей.
Архитекторы стремились объединить элементы дизайна из нескольких стилей, разрушив границы между ними. Соответственно, постмодернизм часто хвалят за его эклектичный и веселый стиль.
Однако он также столкнулся с изрядной долей критики, многие высмеивали ее как уродливую, поверхностную, производную и, по словам Фредрика Джеймсона, «культурную логику позднего капитализма». Действительно, огромная городская экспансия Дубая привела к тому, что его стали называть «мировой столицей постмодернизма».
Постмодернизм процветал в 1980-х и 1990-х годах, разделившись на другие стили, такие как хай-тек, деконструктивизм и неоклассицизм. Включены ведущие архитекторы движения; Филип Джонсон, Чарльз Мур, Фрэнк Гери, Майкл Грейвс, Терри Фаррелл и Джеймс Стирлинг.
Известные постмодернистские здания включают:
- Банк Америки Центр, Хьюстон Филип Джонсон.
- Neue Staatsgalerie Джеймса Стирлинга.
- № 1 Птица Джеймса Стирлинга.
Роберт Вентури и сложное целое — Common Edge
Роберт Вентури (1925–2018) был самым влиятельным американским архитектором прошлого века, хотя и не в первую очередь благодаря своим строительным работам или статусу дизайнера. В этом отношении он никогда не будет стоять рядом с Райтом, Каном или даже Гери. Между 1965 и 1985 годами он и его соратница Дениз Скотт Браун изменили взгляд всех архитекторов на здания, города и пейзажи, во многом так же, как Маршалл Маклюэн, Боб Дилан и Энди Уорхол изменили наш взгляд на искусство, средства массовой информации и популярные культура в тот же период.
Я работал с Бобом Вентури во время обучения в 1970-х; Я также вырос с его книгами, зданиями и отцовским влиянием. Между ним и моим отцом был один год разницы; Дениз ровесница моей матери.
Каждый, кто достиг совершеннолетия в 1960-х и 1970-х годах, знал об электрическом Kool Aid, который стал движущей силой культуры. Для молодых архитекторов Боб и Дениз Вентури были так же важны для культуры, как и телеведущие. Они были привлекательными, остроумными и модными — проводили медовый месяц в Лас-Вегасе и курсировали между Йельским университетом, Пенсильванией, Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе и Музеем современного искусства в Нью-Йорке во время их стремительного взлета к славе в середине 1960-х годов.После их свадьбы в 1967 году Дениз надеялась, что они будут иметь такое же влияние, как ее наставники Максвелл Фрай и Джейн Дрю или коллеги Эллисон и Питер Смитсон в Соединенном Королевстве. Ей незачем волноваться. После восхваления Винсента Скалли по поводу «Сложность и противоречие» и «Архитектура » ее муж стал обладателем медали AIA, гуру теории и головорезом, возглавившим критику «корпоративного модернизма» — символа военно-промышленного комплекса Америки во Вьетнамский период.
Легко забыть, что на какое-то время Дениз Скотт Браун фактически затмила статус своего мужа в академических кругах: она была первой женщиной, возглавившей программу городского дизайна, первой, чье имя было на мачте крупной фирмы, и почти первой возглавить элитную архитектурную школу (Йель). Присоединившись к фирме своего мужа, она стремилась создать «трудное» партнерство в сфере, где доминируют мужчины. Боб сопротивлялся тем, кто предлагал сохранить для бизнеса название «Вентури и Раух» — они были неразрывной творческой командой.
Дом гильдии в Филадельфии, через Wikipedia Commons.Подобно многим молодым архитекторам, которые прочитали небольшую белую книгу из MoMA после ее публикации, я нашел в крошечных фотографиях и плотной прозе освобождающий аргумент против традиционной архитектуры Гарвардского Баухауса, General Motors и гладких Мизианских башен SOM. Как специалист по английской литературе, я знал, что Вентури прочитал в Принстоне книгу Уильяма Эмпсона «Семь типов двусмысленности» , взяв ее за основу для изучения различных «порядков» в планах зданий и фасадах.Он знал работы Элиота, Паунда и новых критиков, поэтому значение в архитектуре можно было интерпретировать так, как эти фигуры рассматривали сложный поэтический синтаксис, иронию и оксюморонические словари. Здания могли выражать юмор, амбивалентность, обходительность, легкомыслие — действительно, любые эмоции, передаваемые стихами, симфониями или абстрактным искусством. Посмотрите, сказал он, на Микеланджело, Лютьенса, Фрэнка Фернесса и банк «Греческое возрождение» за углом. Вы найдете сложные, сложных композиций, которые поднимут ваше эстетическое восприятие и бросят вызов вашему вкусу.
Я и не подозревал, что незадолго до моего окончания колледжа будет опубликована книга, которая вызовет еще больший резонанс среди практикующих архитекторов и проектировщиков: A Significance for A&P Parking Lots or Learning From Las Vegas. Я потратил каждую копейку на моем сберегательном счете, чтобы купить копию — это был Новый Завет в соответствии с Ветхим, напечатанный в фолио размером с Десять заповедей. Я пошел домой и прочитал его от корки до корки, иногда думая, что мне нужно спрятать его, как журнал Playboy от моих соседей по комнате.Действительно ли эти интеллектуалы сочувственно писали о разрастании, торговых центрах, супермаркетах и рекламных щитах?
Идеи из Learning From Las Vegas шокировали архитектурный истеблишмент и даже отвлекли некоторых энтузиастов Вентури от его «постмодернистских» эстетических позиций. Он, конечно, никогда не одобрял этот лейбл.
Идеи из Learning From Las Vegas шокировали архитектурный истеблишмент и даже отвлекли некоторых энтузиастов Вентури от его «постмодернистских» эстетических позиций.Он, конечно, никогда не одобрял этот лейбл. Как американец, он видел в объятиях Мэйн-стрит, Стрип и утенка Лонг-Айленда продолжение многих художественных движений после Оружейной выставки, включая реализм Эдварда Хоппера и Чарльза Демута, регионализм Уильяма Карлоса Уильямса и Гранта Вуда. , Суперграфика, поп-арт и ранний минимализм. Скотт Браун был одним из первых защитников сохранения городских кварталов; Стив Изенур основал Общество сохранения ду-уопа в Вайлдвуде, штат Нью-Джерси.Чарльз Мур опубликовал свою дань уважения Диснейленду «За общественную жизнь нужно платить». Хотя тогда это было трудно признать, эта критика городского пейзажа 1970-х годов была пророческой.
Подобно тому, как в офисе Лу Кана обучалось множество талантливых дизайнеров, VRSB в Филадельфии положила начало многим успешным карьерам. Критики редко отмечают, что некоторые из тех, кто работал с Вентури, вернулись к модернизму в течение 1980-х годов (Стив Киран, Джим Тимберлейк, У. Г. Кларк и Фред Шварц являются яркими примерами), в то время как другие начали рассматривать традиционную и народную архитектуру как более мощный источник. вдохновения для новой работы.Тони Аткин, Элизабет Плейтер-Зиберк, Стэнли Тараила и Кэмерон Мактавиш извлекли уроки из классических примеров и прецедентов City Beautiful, когда стали успешными архитекторами и проектировщиками. У нас не было бы Конгресса за новый урбанизм без смелого руководства Роберта Вентури, как неоднократно указывала Скалли. Некоторым современным архитекторам трудно принять плюрализм , но это условие современности.
Непредвиденное последствие «Сложность и противоречие в архитектуре» — быстрое развитие текстовой критической теории во многих американских архитектурных школах.Вентури дистанцировался от этих чистых теоретиков, всегда заявляя, что он архитектор, стремящийся выражать идеи в зданиях, а не в словах. В этом смысле он был прагматиком, таким же американцем, как Джон Дьюи или Генри Дэвид Торо. Прославляя современное состояние, не отвергая гуманизма, он принял трудное положение любого современного дизайнера. Сын страстного квакера, отстаивавшего равенство и личную самооценку, он и его фирма были привержены делу улучшения жизни своих конечных клиентов, создания пользователей.Он никогда не стеснялся называться эстрадным архитектором.
Сегодня обидно видеть такое прекрасное здание, как Музей современного искусства Ла-Холья, под угрозой разрушения, чтобы уступить место второсортному расширению. Великолепные здания VRSB — известные достопримечательности современного американского дизайна: Дом Ванны Вентури, Дом Гильдии, Музей Франклина Корт, Художественный музей Оберлина, Зал Гордона Ву, Крыло Сейнсбери. Немногое было построено после 1990 года.
Увы, в течение последних трех десятилетий своей карьеры Вентури получал награды и награды за свои ранние работы, но не нашел чемпионов среди современных критиков или в академии.Это было печальным следствием истории, хотя я верю, что история будет более позитивно смотреть на его работы в ближайшие десятилетия. Он жил в непростой период, с юмором и изяществом принимая все его проблемы и противоречия. Всегда выступая за проекты, которые находили золотую середину, сложное целое, он был архитектором, идеально подходящим для своего времени и места: Филадельфия, Соединенные Штаты, двадцатый век.
Показанное изображение: Дом Ванны Вентури, через Wikipedia Commons.
Имажинизм и модернизм и за его пределами
ИмажинизмИмажинизм был поджанром модернизма, связанным с созданием четких образов с резким языком. Основная идея заключалась в том, чтобы воссоздать физическое восприятие объекта с помощью слов. Как и весь модернизм, имажинизм безоговорочно отвергал викторианскую поэзию, которая имела тенденцию к повествованию. В этом смысле имажинистская поэзия похожа на японское хайку; они представляют собой краткие изображения какой-то поэтической сцены.
| Паунд утверждал, что появление символов «человек», «дерево» и «солнце» отражает их значение. |
Эзра Паунд, поэт-космополит американского происхождения, был выдающейся фигурой модернизма и великим пропагандистом имажинизма. Паунд определил образ как «интеллектуальный и эмоциональный комплекс в одно мгновение времени». Поэма имажиниста заключает в себе поэтический импульс наиболее эффективным с точки зрения времени и пространства способом; это ядро поэзии.На самого Паунда оказала влияние китайская поэзия благодаря эссе Эрнеста Феноллоса о китайской письменности. Феноллоса заметил, что некоторые китайские иероглифы похожи на идею, которую они выражают (фунт 19). Точно так же для Паунда слова поэта должны вызывать тот самый физический объект, о котором он писал
. В интервью журналу Poetry , опубликованному в 1913 году, Паунд обозначил следующие принципы имажинизма:
- Прямое отношение к «вещи», будь то субъективное или объективное.
- Не использовать ни одного слова, которое не способствует презентации.
- Что касается ритма: сочинять в последовательности музыкальных фраз, а не в последовательности метронома. (qtd. в Гамильтоне)
Позже он расширил эти принципы в предисловии к Des Imagistes (, антология имажинистской поэзии), перечисляя то, что он называл «основами» имажинизма:
(1) Использовать язык обычной речи, но всегда точное слово, а не почти точное, не просто декоративное слово.
(2) Создавать новые ритмы — как выражение новых настроений — а не копировать старые ритмы, которые просто повторяют старые настроения. Мы не настаиваем на «вольном стихе» как на единственном методе написания стихов. Мы боремся за это как за принцип свободы. Мы считаем, что индивидуальность поэта часто лучше выражается в стихах, чем в традиционных формах. В поэзии новая каденция означает новую идею.
(3) Дать абсолютную свободу в выборе предмета. Плохо писать о самолетах и автомобилях — плохое искусство; хорошо писать о прошлом — это не обязательно плохое искусство.Мы страстно верим в художественную ценность современной жизни, но хотим отметить, что нет ничего более скучного и старомодного, чем самолет 1911 года.
(4) Представить изображение (отсюда и название: « Имажинист »). Мы не школа художников, но мы считаем, что поэзия должна точно передавать детали, а не иметь дело с туманными общими, какими бы великолепными и звучными они ни были. По этой причине мы выступаем против космического поэта, который, как нам кажется, уклоняется от реальных трудностей своего искусства.
(5) Создавать четкие и ясные стихи, никогда не размытые и неопределенные.
(6) Наконец, большинство из нас считает, что сосредоточение — это самая суть поэзии. (qtd. в Гамильтоне)
| «Педали на мокрой черной ветке» |
Пример короткого имажинистского стихотворения, который часто антологизируется, — это «На станции метро» Паунда:
Видение этих лиц в толпе;
Педали на мокрой черной ветке.
Через эти мимолетные две строчки поэт создает в сознании читателя образ бесчисленных путешественников на станции метро. Затем он сопоставляет лица этих путешественников с изящными педалями на черной поверхности. Паунд сочетает в себе неистовый городской центр с безмятежным цветочным рисунком, который одновременно вдохновляет на то, чтобы сбежать от суеты городской жизни, и признает природную красоту в одном из самых индустриализированных мест.
Модернизм
Хотя королева Виктория умерла в 1901 году, можно сказать, что модернизм родился из противоположных взглядов предыдущих веков.Такие романы, как Тристрам Шенди, (1759), , , в котором отсутствует четкий сюжет и в котором главные герои рассказывают о своем собственном рождении, и Иуд Неизвестный (1895), мрачный роман, жестоко критикующий викторианские обычаи, могут показаться такими, как предшественники периода, превозносившего расходящееся и экспериментальное. Наиболее яркая фаза модернизма, получившая название «высокий модернизм», произошла в межвоенные годы (1918-1939). Это было время, когда писатели-синонимы модернизма, такие как Вирджиния Вульф, Джеймс Джойс, Т.С. Элиот и Д.Х. Лоуренс процветали. В то время как викторианцы обычно интересовались отображением реальности, как они понимали ее, в художественной литературе, модернисты признавали, что реальность субъективна, и вместо этого стремились представить человеческую психологию в художественной литературе. Об этом свидетельствует рассказ потока сознания Джойса Портрет художника в молодости и Улисс, Вульфа Миссис Дэллоуэй и На маяк и Элиота «Любовная песня Дж. .Альфред Пруфрок ».
| Ханс Хофманн: ворота. Архетипическое искусство модеризма |
Модернизм также характеризуется систематическим отказом от социальных и литературных норм. В свете широко распространенных человеческих страданий в начале 20-го века модернисты выступают против всех основных идеалов и условностей с неумолимым пессимизмом, прямо противоречащим социальному оптимизму викторианской эпохи. Модернисты утверждают, что прошлые движения и идеологии не связаны с реальностью человеческого существования.Путем обильных литературных экспериментов модернисты пытаются передать сложность мира, очевидно находящегося на грани дефлаграгации. Соответственно, модернисты, обильно экспериментируя с литературными формами и стилем, рискуют литературной несогласованностью, чтобы выразить воспринимаемую фрагментацию и несвязность современного мира — чувство, уходящее корнями в космополитические истоки большей части модернистской литературы. Возникновение беспокойной городской жизни в сочетании с чувством человеческого разложения побудило модернистов искать объединяющую философию.Таким образом, культура стала политически важной, поскольку она воспринималась как единственный универсальный источник идентичности и социальных ориентиров (модернизм).
В успешной модернистской литературе результатом этих характеристик является более сложный и детальный анализ мира, чем что-либо из когда-либо созданных. Архетипы редко подкрепляются, и обычно не удается найти четкую интерпретацию предмета. Анализируется не только структура письма и мира, но и значение слов, закономерностей и явлений подвергается литературной линзе с явным намерением избежать чрезмерного упрощения.Наблюдается беспорядок. В результате возникает небывалый уровень литературной критики. Фактически, известные писатели-модернисты, такие как Т.С. Элиот и У. Йейтс был также опытным литературным критиком (модернизм).
Вот некоторые структурные и формальные характеристики модернизма:
- Открытая форма
- Бесплатный стих
- Непрерывное повествование
- Интертекстуальность
- Классические аллюзии
- Фрагментация
- Несколько точек зрения нарратива (параллакс)
- Мета-рассказ
- Нетрадиционное использование метафор
- Заимствования из культур и языков
- Сопоставление несовместимых объектов, тем, повествований и т. Д.
Аналогичные тематические характеристики движения включают (модернизм):
- Нарушение социальных норм и культурных гарантий
- Фрейдистское рассечение человеческого сознания
- Выведение значения и смысла из нормального контекста
- Повышение достоинства отчаявшегося человека перед лицом неуправляемого будущего
- Разочарование
- Отказ от истории и подмена мифического прошлого, заимствованного без хронологии
- Продукт мегаполиса, городов и городских ландшафтов
- Поток сознания: представление необработанной, необработанной человеческой психики, представляющей интерес для фрейдистского анализа
- Огромные технологические изменения ХХ века
- Отсутствие власти и потеря веры в демократию и свободу
Постмодернизм
Постмодернизм, пожалуй, самое туманное из всех литературных течений.Он простирается от конца модернизма с такими писателями, как Сэмюэл Беккет, до современных авторов, таких как Салман Рушди. Ученые спорят о том, живем ли мы по-прежнему в эпоху постмодерна, не говоря уже о ее компонентах. На самом деле, обычно безопаснее ссылаться на работы, содержащие постмодернистскую мысль, чем быть частью постмодернизма. Каким бы спорным ни был период, все же довольно легко распознать постмодернистских писателей и течения, и один из самых простых способов определить его — это связь с модернизмом.В то время как модернизм отчасти можно назвать реакцией на Первую мировую войну, постмодернизм возник после Второй мировой войны. В отличие от модернистов, которые в целом серьезно относились к себе и своему искусству, постмодернисты относятся к своим предметам иронически или сатирически, используя пародию и стилизацию, смешение, казалось бы, противоречащих друг другу литературных жанров или мотивов.
Хотя постмодернизм во многом отличается от предшествующего ему движения, он сохранил и даже усилил пессимизм и авангардистские предпочтения модернизма.Подобно модернистским работам Пустошь и Поминки по Финнегану , постмодернизм часто избегает или инвертирует традиционное повествование, возможно, даже ломая четвертую стену. Постмодернисты обычно отбрасывают одномерные парадигмы и настаивают на том, что любой способ взгляда на природу или его отсутствие — правильный. Законы природы, науки, религии и политики часто разбираются, чтобы выявить недостатки и противоречия цивилизации.
Британский постмодернизм, вероятно, наиболее известен своей драматичностью.Пьеса Сэмюэля Беккета « В ожидании Годо », вероятно, является одним из самых известных примеров театра абсурда и олицетворяет постмодернистское сочетание комедии и пессимистической философии. Пьеса Тома Стоппарда Rosencrantz и Guildenstern are Dead , постмодернистская переработка Гамлета , сосредоточенная вокруг двух второстепенных персонажей, и пьесы Гарольда Пинтера The Breakfast Party и No Man’s Land также являются образцовыми произведениями.
Список литературы
Чендлер, Дэниел.«Интертекстуальность». Семиотика для начинающих . 04 10 2003. 19 ноября 2007 г. http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/sem09.html.
Гринблатт, Стивен, изд. «Двадцатый век и после». Антология английской литературы Нортон, восьмое издание, том 2 . Нью-Йорк: W.W. Norton & Company, Inc., 2006. 1827-1850.
Гамильтон, Крейг А. «К когнитивной риторике имажинизма. Style. 38,4 (зима 2004 г.): 468 (23). Общий OneFile .Гейл. Библиотека Университета Делавэра. 2 декабря 2007 г.
Лай, Джон. «Некоторые атрибуты постмодернистской литературы». 30 ноября 2007 г.
«Модернизм». Критический поэт 17 ноября 2007 г.
«Постмодернизм». Британская энциклопедия . 2007. Британская энциклопедия онлайн. 30 ноября 2007 г.
фунта, Эзра. Азбука чтения. Беркшир: Фабер и Фабер, 1991.Распечатать.
Отправитель, Аяла. «Педали на мокрой черной ветке». 2008. http://memoryanddesire.typepad.com/blog/2008/03/ayala-sender.html
Авторы
Грег ЛаЛуна
Назад в двадцатый век
(PDF) Wiki article (черновик, ожидание отправки)
Цитирование
1. Гребенюк Анатолий А. (2017), Очерки метамодернистской психологии (http://metamodernizm.ru/metamodernism-psy
chology /), Журнал Metamodernizm, дата обращения 21 декабря 2017
2.Гребенюк, Анатолий А. (2017). «Теоретические и методологические основы метамодернистской психологии» (http
s: //www.researchgate.net/publication/321038673_TEORETIKO-METODOLOGICESKIE_OSNOVY_METAMODERNI
II_0002 ST Фундаментальные и прикладные исследования: актуальные проблемы, достижения и инновации (сборник статейIII Международная научно-практическая конференция) (на русском языке) (ред. Г. Ю. Гуляева). Пенза: «Наука и образование»: 189–195.
3.Вермёлен, Тимофей; ван ден Аккер, Робин (2010). «Заметки о метамодернизме» (http://www.tandfonline.com/doi/ful
l / 10.3402 / jac.v2i0.5677). Журнал эстетики и культуры. 2. Проверено 21 декабря 2017 года.
4. Абрамсон, С. «Метамодернизм: основы» (https://www.huffingtonpost.com/seth-abramson/metamodernism-the-b
asics_b_5973184.html). Проверено 21 декабря 2017 г.
5. Freinacht, Hanzi (10 марта 2017 г.). Общество слушания: метамодернистское руководство по политике, книга первая.Metamoderna ApS. п.
414. ISBN 978-8799973903.
6. Эшелман Р. (2001). «Перформатизм, или конец постмодернизма» (http://www.anthropoetics.ucla.edu/ap0602/perfo
rm.htm). Антропоэтика. 6 (2).
7. Schechner, Richard (2002). Стаки, Натан; Виммер, Синтия, ред. «Предисловие: Основы исследования эффективности».
Исследования эффективности преподавания. Издательство Южного Иллинойского университета.
8. Бласкович, Джим; Бейленсон, Джереми.Бесконечная реальность: аватары, вечная жизнь, новые миры и рассвет виртуальной революции (1-е изд.
). Нью-Йорк: Уильям Морроу. ISBN 0061809500.
9. Сулер Дж. «Фотографическая психология: изображение и психика»
(http://truecenterpublishing.com/photopsy/article_index.htm.)
10. Уоллес П. (1999). Психология Интернета. Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета. п. 264ISBN. 0521-63294-3.
11. Янь, Чжэн Хао; Хепинг, Хоббс; Джон, Л.; Вэнь, Нин (2003). «Психология электронного обучения: область изучения» (http: // jo
urnals.sagepub.com/doi/abs/10.2190/D0MU-61Y8-BCRJ-2881). Журнал образовательных компьютерных исследований. 29 (3): 285–296.
12. Гребенюк, Анатолий А. (2016). «Метамодернизм в психологии или уход от игры к жизни с ее
перформативный» (https://www.researchgate.net/publication/321038734_METAMODERNIZM_V_PSIHOLOG_ZEEZZEI_YO_000_RUSHOLOGO_V_PSIHOLOG_ZOE_000_RUS_000_000_000_Z_000_Y_000_000_D_000_Y_000 .МИРОВАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИИ (сборник статей VI Международной научно-практической конференции
) (на русском языке). Пенза: «Наука и образование» .1: 313–316.
13. Гребенюк, А. А .; Носовцов, А. Е. (2017). «Метамодернистская психотерапия: теоретические основы и задачи для решения»
(https://www.researchgate.net/publication/321038735_Metamodernistskaa_psihoterapia_teoreticeskie_osnov
ania_i_resaemye_zadaci).
