Постмодернизм лурк: Доступ закрыт
Структура мышления метамодерна
В роковой день 11 сентября 2001 года мир изменился навсегда. Началась новая эпоха, которую многие учёные называют «гипермодерном» или «пост-постмодерном» (ударение на хронологическую позицию новой эпохи). Философы, культурологи и другие специалисты используют разные термины, пытаясь дать определение наступившему времени.
Метамодернизм — одна из существующих на сегодня попыток определить актуальную культурную реальность. Термин был предложен в 2010 году двумя голландскими философами-теоретиками Тимотеусом Вермюленом и Робином ван ден Аккером.
Адам Миллер: «End of the road» из цикла «Among the ruins» 2012 год(источник: adammillerart.com)Метамодерн — это глобальный культурный процесс, характеризующийся «колебанием» (осцилляцией) между двумя противоположностями (модерн и постмодерн, например) и одновременностью их использования.
Свои основные идеи Вермюлен и Аккер изложили в книге «Заметки о метамодернизме».
Модерн
Культура
Эпоха модерна начинается после так называемой классики — периода, включающего в себя античность, Средние века, Ренессанс и так далее. Классическая эпоха создала основные образцы произведений искусства, а модерн начал их пересматривать и искать новые формы выражения. Так, например, родились русский авангард, абстракционизм, дадаизм и другие формы. Применительно к искусству следует говорить про модернизм.
Политика
Идеи модерна достаточно радикальны. Например, философия модерна очень поляризована и не имеет градиентов (марксизм, анархизм, фашизм). В политике для модерна характерны жёсткие идеологии, которые ещё называются метанарративами — одним общим смыслом, который, как прокрустово ложе подгоняет под себя всё попадающее под руку. Модерн стремится сделать универсального, «массового» человека. Например, метанарратив сталинизма десятилетиями обтёсывал советское общество, избавляясь от всех, кто не подходил под формальные признаки «надёжного товарища» — вот политическое выражение модерна.
Модерн стремится сделать универсального, «массового» человека. Например, метанарратив сталинизма десятилетиями обтёсывал советское общество, избавляясь от всех, кто не подходил под формальные признаки «надёжного товарища» — вот политическое выражение модерна.
Модернистские идеи очень красивы в общей форме. Модерн породил яркие утопии и антиутопии. «Мы», «О дивный новый мир», «1984» — эти произведения радикализируют идеи модерна, которые в своё время были заложены ещё Томасом Мором и Томмазо Кампанеллой в их знаменитых трудах «Утопия» и «Город солнца».
Общества модерна часто вырождались в тоталитарные государства с жёстким государственным аппаратом. Но человек — это непостоянная система, его невозможно вписать в чёткие рамки, ведь стремление отойти от правил и догм всегда будет сохраняться. В каком-то смысле модернистские идеологии боролись против ветряных мельниц, желая обуздать вольный дух человека.
Философия
Модернистское сознание провозгласило смерть бога, стараясь осознать материальный мир, избавившись от идеи трансцендентного (духовного) и поставив во главу имманентное (материальное).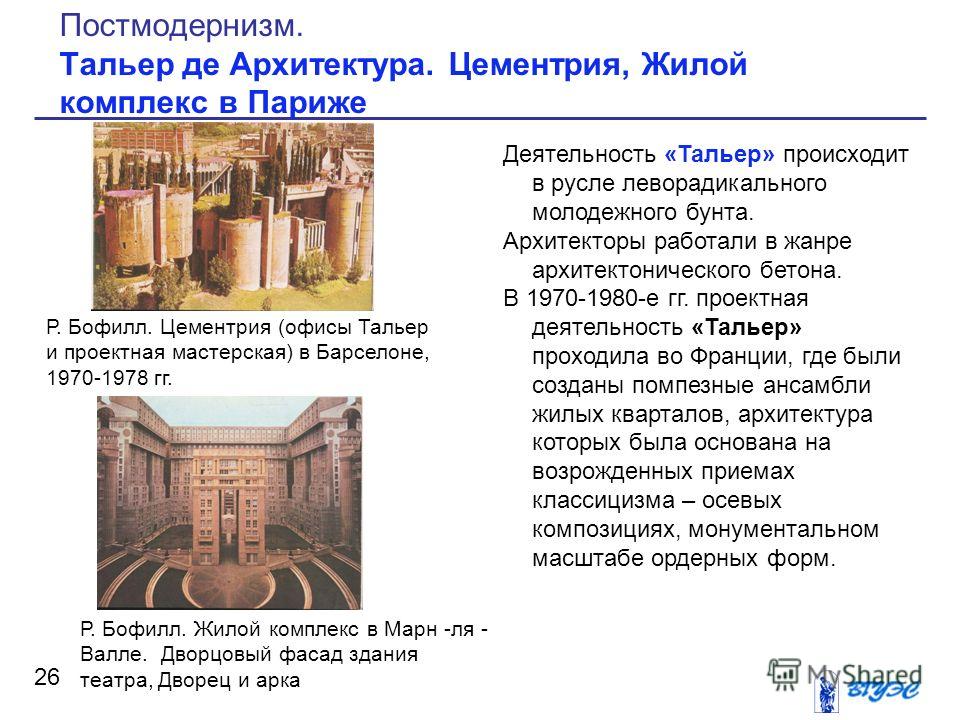 С точки зрения модерна, используя технические инструменты, можно познать универсальную истину. Погоня за такой истиной дала нам атомную энергию, электронику, химическую промышленность, квантовую физику и многое другое.
С точки зрения модерна, используя технические инструменты, можно познать универсальную истину. Погоня за такой истиной дала нам атомную энергию, электронику, химическую промышленность, квантовую физику и многое другое.
Адам Миллер: «The bone wars» из цикла «Heading Discoverer» 2015-2016 гг(источник: adammillerart.com)
Универсальность истины не только надела на всех женщин чулки от фирмы DuPont, но и столкнула друг с другом целые цивилизации. Две мировые войны стали апогеем модерна. Если мы хотим общей истины для всех, но в то же время уничтожаем носителей этой истины (людей), то кто будет получать выгоду от проекта модерна? Узкая прослойка элиты, либо же вообще никто. 1945 год стал концом не только Второй мировой войны, но и модерна как цивилизационного метанарратива.
Постмодерн
Культура
Постмодерн открыл эпоху абсолютного плюрализма. Постмодерн сочетает в себе всё прошлое наследие человечества и деконструирует его, играя с ним, иронизируя, цитируя и копируя. Французский социолог Жан Бодрийяр назвал этот процесс созданием так называемых симулякров — бесконечных копий копий, где оригинал навсегда потерян. Для постмодерна игра с культурным наследием прошлых эпох превратилась в самоцель. Постмодерн в культурном плане создал ту самую массовую культуру, которую мы наблюдаем сейчас.
Французский социолог Жан Бодрийяр назвал этот процесс созданием так называемых симулякров — бесконечных копий копий, где оригинал навсегда потерян. Для постмодерна игра с культурным наследием прошлых эпох превратилась в самоцель. Постмодерн в культурном плане создал ту самую массовую культуру, которую мы наблюдаем сейчас.
Массовая культура постмодерна настолько сложна, что её объяснение становится не менее увлекательным, чем потребление. Например, в русскоязычном интернете с этим отлично справляется журналист Гриша Пророков.
Массовая культура постмодерна имеет фантомную глубину. Зачастую она одномерна. Эту одномерность разные авторы превращают в квест из отсылок и цитат. Тексты постмодерна переплетаются так сильно, что не могут существовать друг без друга. Культурный дискурс постмодерна бесконечно усложняется, превращаясь в циклопическую матрёшку. По сути текст этой статьи — тоже постмодернистская матрёшка, поскольку потерял бы всякий смысл, не будь в нём тонн ссылок и цитат.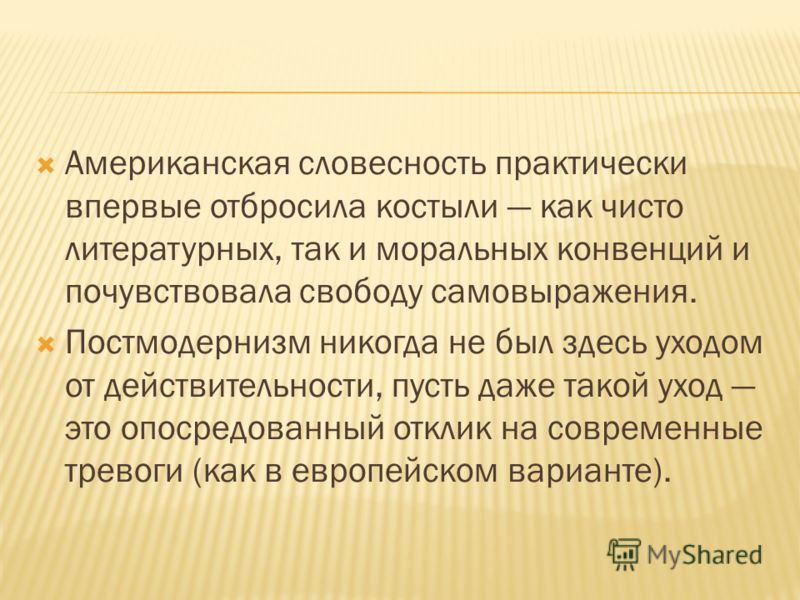
Антон Седнин
Исследователь метамодерна
— Например, писатель, номинант «Хьюго» Питер Уоттс имеет статус самого сложного фантаста современности. Книга «Ложная слепота» по количеству отсылок оказалась сопоставима с научным исследованием, так ещё и главный герой постоянно пользовался аналогом Википедии, чтобы дополнительно пичкать читателя мудрёной информацией. Но фанаты протолкнули роман в печать. «Ложная слепота» стала бестселлером.
Для зрителя поиск «пасхалок» стал чуть ли не главным смыслом потребления культуры.В культуре постмодерна произведения сложны не из-за того, что «пасхалками» стремятся заменить смысловую пустоту. Усложенение требуется, чтобы сделать восприятие произведения глубоким эмоциональным опытом. От прохождения такого «квеста» зритель получает удовольствие, потому что использует для этого весь свой культурный багаж. Выигрывает автор, который снабдит произведение достаточным количеством отсылок, чтобы принести зрителю удовольствие от культурной включённости. Так знание подменяется суррогатом знания, подмигиванием тем, кто «в теме». Зачастую произведения постмодернистской культуры предусматривают деконструкцию реальности и игру на её руинах.
Так знание подменяется суррогатом знания, подмигиванием тем, кто «в теме». Зачастую произведения постмодернистской культуры предусматривают деконструкцию реальности и игру на её руинах.
Адам Миллер: «Apollo and Daphne» из цикла «Twilight in Arcadia» 2013-2014 гг(источник: adammillerart.com)
Политика
В постмодерне истина перестала быть универсальной. Конечно, эпоха Холодной войны ставит под сомнение это утверждение, потому что до конца 80-х годов мир был поделён на два враждующих лагеря: коммунистический и демократический. Но постмодерн проявил себя, в первую очередь, именно в демократических странах, а уже потом пришёл в страны Варшавского договора после падения «железного занавеса». Этим фактом можно объяснить несостоятельность коммунистической идеи: сложно находиться в статичной парадигме, когда прогрессивный мир стремительно уходит вперёд. Можно сказать, что модернистский коммунизм морально устарел к концу XX века, не выдержав ударов постмодернистских молотков по Берлинской стене.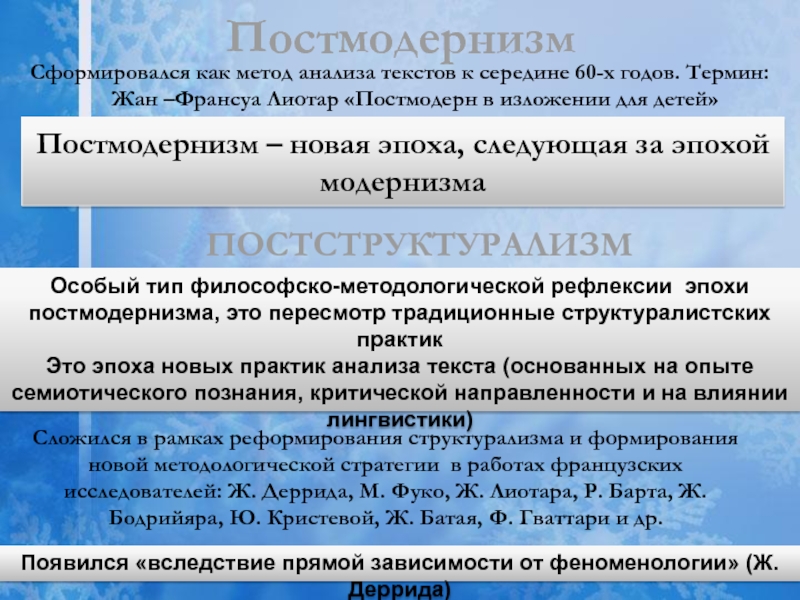
Философия
Прежде всего, постмодерн отличается от модерна тем, что отрицает универсальную истину. Именно постмодерн окончательно похоронил бога, заставив сомневаться во всём. Если модерн пытался превратить индивида в «массового человека» (как в СССР, например), то постмодерн начал дробить, деконструировать общество до индивида.
Постмодерн сделал абсолютную истину условной: любая истина может быть побита другой истиной. В постмодерне понятие истины вообще теряет какой-либо смысл. Здесь нет того самого общего метанарратива, характерного для тоталитарных обществ. Нет идеологии, нет бога, есть конец истории, как писал американский политолог Фрэнсис Фукуяма. По его мнению, либеральная демократия, которая стала продуктом постмодерна, должна стать итогом общественного прогресса человека.
Митч Гриффит «Call of Duty» из цикла «Enduring Freedom»(источник: mitchgriffiths.com)
Постмодерн деконструировал всё, что построили другие культурные эпохи, начал играть с этими элементами, как с кубиками LEGO. Постмодерн иронизирует, цитирует и копирует, входя в бесконечную рекурсию в потоке бодрийаровских симулякров.
Постмодерн иронизирует, цитирует и копирует, входя в бесконечную рекурсию в потоке бодрийаровских симулякров.
Дмитрий Кудров
Исследователь метамодерна
— Постмодерн не отказывает абстрактному ничему в праве на существование, тем самым делая всё бессмысленным и просто несерьёзным, он уничтожает любую вещь, через уничтожение центра, разума, логического мышления.
Но что-то начало меняться. Либеральные идеологии ощущают угрозу со стороны правых популистов вроде Дональда Трампа и Марин Ле Пен, массовая культура застряла в своей одномерности, а человек оказался в заложниках деконструкции и рекурсии. Глобализация не сделала мир по-настоящему единым, а информационные технологии, хоть и помогают людям общаться без преград, но, в то же время, поляризуют общество по информационному признаку.
Метамодерн
Культура
Метамодерн двигается благодаря раскачиванию между противоположностями (осцилляции). Он не занимает определённую позицию. Он воспринимает мир и культуру как один общий поток смыслов, которые есть части общей истины, где каждая единица важна и самодостаточна. В нём нет места снобизму, элитизму, нет высокой и низкой культуры.
В нём нет места снобизму, элитизму, нет высокой и низкой культуры.
Митч Гриффит: «Liberty» из цикла «Enduring Freedom»(источник: mitchgriffiths.com)
Метамодерн — это то состояние, когда вы можете испытывать честное удовольствие от всего. Вы можете читать Достоевского и всерьёз слушать Киркорова, любить сагу «Сумерки» и музыку Чайковского. Вы всё это любите не только честно, но и с иронией. Благодаря этому новому чувству, мы можем не зацикливаться на больших метанарративах, а искать собственную цель. Таким образом, раскачивание между модернистской серьёзностью и постмодернистской иронией поднимает метамодерн над ними. Примером могут служить вечеринки вроде «Дикого Диско!», где ирония, ностальгия и искренность накладывается на российскую треш-попсу.
Метамодерн стремится найти смысл культуры и искусства, наделить произведения глубиной. Но это глубина иного порядка, чем в постмодерне. Искусство метамодерна стремится к многомерности, как, например, в картинах художника Адама Миллера. В своём цикле «Среди руин» Адам использует приёмы классической иконографии для актуализации экологических и гуманитарных проблем. Другой художник, Митч Гриффит, в цикле картин «Несокрушимая свобода» использует аналогичные приёмы для актуализации проблем личности и свободного общества.
В своём цикле «Среди руин» Адам использует приёмы классической иконографии для актуализации экологических и гуманитарных проблем. Другой художник, Митч Гриффит, в цикле картин «Несокрушимая свобода» использует аналогичные приёмы для актуализации проблем личности и свободного общества.
Политика
Политика в метамодерне будет находиться в ещё большей связи с культурой, чем прежде. Медиа и интернет-технологии в целом выступают единой средой для взаимодействия не только отдельных людей, но и институтов. Вполне вероятно, что через некоторое время под воздействием метамодерна политика станет не только более личной, но и менее элитарной.
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США показала, что человек без политического бэкграунда вполне может сесть в кресло президента. Хиллари Клинтон, которая занимается политикой всю свою жизнь, проиграла выборы какому-то яппи из 80-х! Но что будет, если в будущем на выборах в США победит Сергей Брин или Марк Цукерберг? Илон Маск? Деэлитизация политики может пойти на пользу обществу.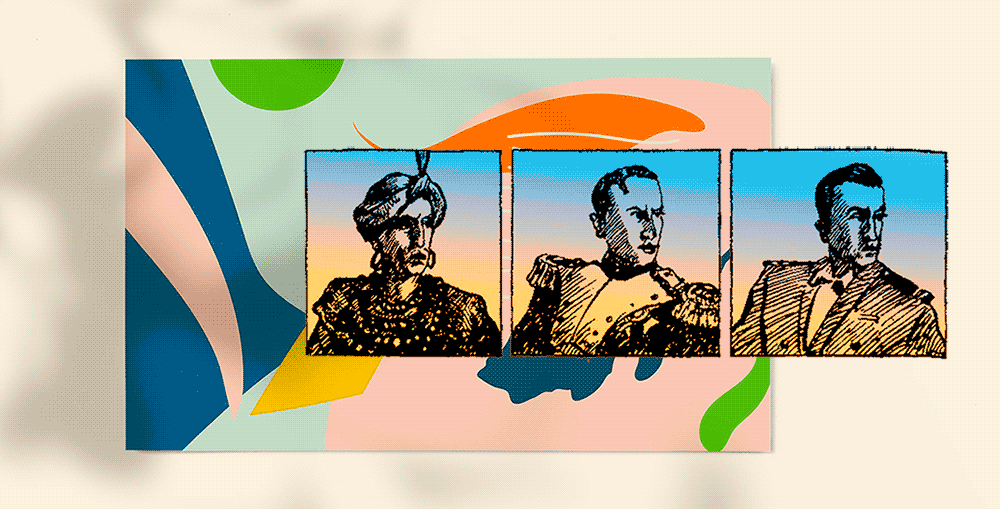 Как и в крупных компаниях нового типа, политика может взять за основы корпоративные принципы XXI века. Звучит идеалистично, но в победу Барака Обамы тоже никто не верил.
Как и в крупных компаниях нового типа, политика может взять за основы корпоративные принципы XXI века. Звучит идеалистично, но в победу Барака Обамы тоже никто не верил.
Митч Гриффит: «The Final Word» из цикла «Iconostasis»(источник: mitchgriffiths.com)
Мы говорим, в первую очередь, о США, потому что это страна, которая порождает глобальные тренды — было бы глупо с этим спорить. Поэтому то, что происходит в политической жизни Америки, со временем может стать ориентиром или даже нормой для других стран.
Философия
В отличие от модерна и постмодерна метамодерн не является инструментом, философией или идеологией. По словам его создателей Вермюлена и Аккера, метамодерн — это структура чувства. Дело в том, что используя какую-то определённую когнитивную модель, человек радикализирует мир, ставит его в рамки. Метамодерн же призван встать над этими рамками. Это обстоятельство не позволяет считать метамодерн четкой философской системой.
Тимотеус Вермюлен и Робин ван ден Аккер.
Голландские философы
— У метамодерна нет цели, он движется ради самого движения, пробует, несмотря на неизбежный провал; бесконечно ищет истину, которую никогда не ожидает найти. Если вы нам простите такую банальную метафору, метамодерн преднамеренно берёт на вооружение двойное послание типа «морковка и осёл». Как и осёл, он преследует морковку, которую он никогда не съест, поскольку морковка всегда вне досягаемости. Но в точности из-за того, что он никак не может съесть морковку, он никогда не прекращает преследовать её.
Основатели русскоязычного сайта о метамодерне Артемий Гусев и Мария Серова в интервью журналу «Stenograme» рассказали о новой парадигме так: «Речь идёт о радикальной открытости, о всепринятии. И здесь открывается ещё один тонкий момент. Практика осцилляции (раскачивания) производит ощутимый побочный эффект — она даёт понимание того, что ты стационарно не связан ни с одним явлением, не отождествлен ни с чем. Путь индивидуальности — наблюдать эти раскачивания, но не делать своим пространством траекторию их колебания».
Мария Серова
Исследовательница метамодерна
— Метамодернизм предлагает взять цель, нечто лежащее за системами и религиями, как константу, способ достижения которой человек должен найти самостоятельно. Это и есть принцип индивидуальности, духовный аристократизм, творческая мораль как индивидуальное откровение, о котором так много говорили Бердяев и Зиновьев.
Однажды философия распалась из общего знания о мире на ряд отдельных дисциплин, занимающихся своими предметами. Это случилось тогда, когда Гегель придумал всё, что только можно. В своё время Карл Маркс хотел описать и осознать мир лучше Гегеля, но у него не получилось. Теперь же метамодерн возвращает людей к общему потоку гуманитарного знания, где важно всё.
Итог
С точки зрения идеологов метамодерна, мы вступаем в новую эпоху, где новый способ смотреть на культуру призван вытащить общество из модернистских и постмодернистских тупиков. Радикальные идеи модерна могут быть скомпенсированы постмодернистским отрицанием и сомнением. Метамодерн — это неуловимая истина где-то посередине. Метамодерн воплощает в себе человеческий дуализм и непостоянство — «социацию», о которой ещё говорил социолог Георг Зиммель. Социация — это то, что объясняет суть человеческого.
Метамодерн — это неуловимая истина где-то посередине. Метамодерн воплощает в себе человеческий дуализм и непостоянство — «социацию», о которой ещё говорил социолог Георг Зиммель. Социация — это то, что объясняет суть человеческого.
По мнению Зиммеля, человек подобен маятнику, который постоянно мечется между двумя крайностями, стремясь к балансу, но так никогда его не находя. Этим Зиммель объясняет непостоянство человеческой природы. Следовательно, ни один из нас не может быть категорично объяснён, ибо мы постоянно находимся в движении.
Таким образом, метамодерн не предлагает нам готовую идею или концепцию, а предлагает найти её самостоятельно, используя «осциллирующее движение».
Митч Гриффит: «Consumption» из цикла «The Promised Land»(источник: mitchgriffiths.com)
Восприятие мира через структуру чувства метамодерна поможет уйти от идеологической зависимости. Когда человеку больше не нужны общие метанарративы, им сложнее манипулировать. Метамодерн — это способ стать личностью.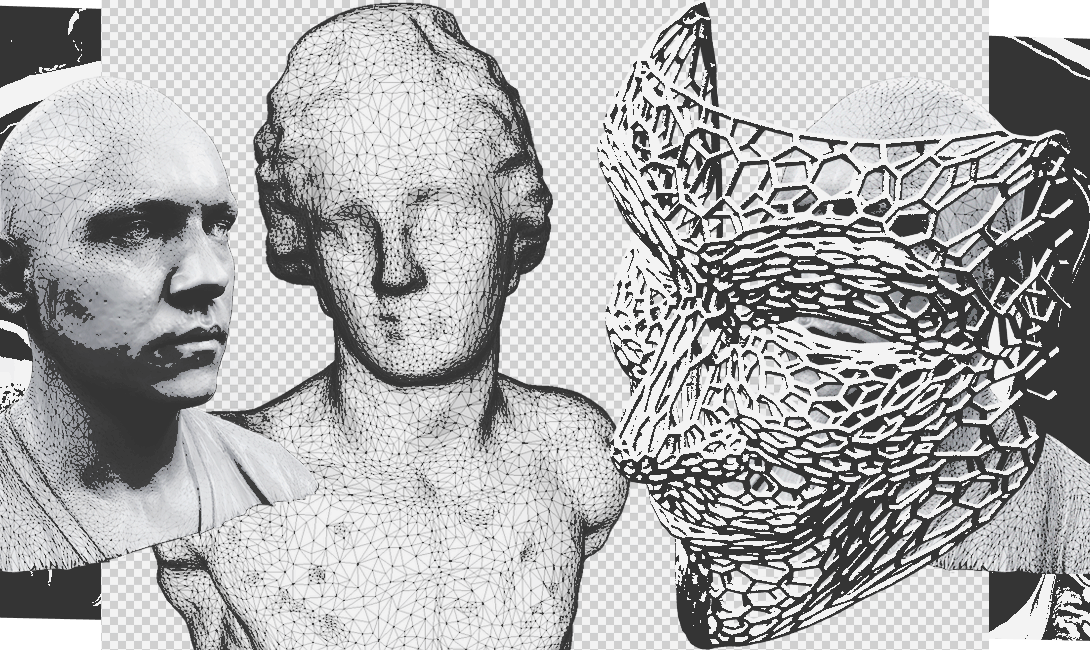 Но, в отличие от ничего не значащего субъекта постмодерна, метамодернистская личность составляет часть общей истины.
Но, в отличие от ничего не значащего субъекта постмодерна, метамодернистская личность составляет часть общей истины.
В метамодерне людям открывается полнота культуры, потому что можно без иронии и невежества воспринимать всю музыку, литературу, игры и фильмы, ведь в метамодерне нет высокого и низкого, а есть единый поток, где важен каждый элемент. Субъект, культура, политика, философия сливаются в одно постоянно движущееся целое.
Говоря про метамодерн, мы не имеем в виду ближайшие 5-10 лет. Метамодерн может продержаться в виде главенствующей парадигмы и 50 и 100 лет. За это время вырастет не одно поколение людей, которые будут отличаться от нас гораздо больше, чем люди из середины и конца XX века.
Также можно подумать, что идеалистически звучащая структура чувства метамодерна не для всех, а только для тех, кто в теме. Какое дело бабушке у магазина до метамодерна? Но ведь в том и суть, что эта абстрактная бабушка у магазина живёт в парадигме того же постмодерна, но не ощущает и не осознаёт этого.
Работа художника Адама Миллера(источник: adammillerart.com)
Культурные эпохи — это не законы или уставы, а атмосфера. Неосязаемый эфир, пронизывающий всех живущих в нём людей. Это тот самый дух времени. Постепенно метамодерн сможет стать эфиром для огромного числа людей. Кого-то он захватит силой, а кто-то будет принимать для себя структуру чувства метамодерна прямо сейчас — это не принципиально.
Метамодерн — это тот постоянно двигающийся фронтир, заставляющий нас идти вперёд, что хорошо показано в клипе американского певца Бэка на песню WOW. Тут вам и постмодернистская культурная деконструкция, и метамодернистский призыв к поиску собственного пути без отрицания мира.
29 марта 2017, 17:00
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.
Почему нужно читать Дэвида Фостера Уоллеса прямо сейчас?
Стало известно, что в следующем году на русском языке выйдет «Бесконечная шутка» — самая известная вещь великого и почти неизвестного в России американского писателя Дэвида Фостера Уоллеса.
 По просьбе «Афиши Daily» переводчик романа Алексей Поляринов рассказывает о феномене автора и его книги.
По просьбе «Афиши Daily» переводчик романа Алексей Поляринов рассказывает о феномене автора и его книги.Кто это такой
Уоллес родился 21 февраля 1961 года в семье преподавателей (отец — философ, профессор Иллинойского университета, мать — преподаватель английского языка в Паркленд-колледже в Шампейне) и вырос в доме с огромной библиотекой. Его самое яркое впечатление из детства — родители, читающие друг другу вслух «Улисса» перед сном.
И в школе, и в университете Уоллес был круглым отличником, увлекался теннисом (отсюда бандана, ставшая фирменным знаком писателя) и философией Витгенштейна. Он даже не интересовался литературой, пока однажды в руки ему не попал пинчоновский «Выкрикивается лот 49». Книга так его поразила, что он переделал в роман свою дипломную работу по модальной логике. Дебют получил название «Метла системы» и в 1987 году вышел довольно большим тиражом в крупном нью-йоркском издательстве Viking Press.
Подробности по теме
Дмитрий Быков о том, как читать книги Томаса Пинчона
Дмитрий Быков о том, как читать книги Томаса ПинчонаОкрыленный успехом, Уоллес взялся за сборник рассказов, но идею пришлось отложить из-за проблем со здоровьем: в 1988 году ему поставили диагноз «монополярная депрессия». Курс лечения не давал результатов, и однажды ночью Уоллес просто съел упаковку снотворного — ресторила. Его откачали, и так он (уже во второй раз) попал в психиатрическую клинику, где пережил несколько сеансов шоковой терапии. Сестра писателя рассказывала, что электрошок ненадолго повредил его кратковременную память. Когда она навещала его в клинике во время обеда, Дэвид растерянно смотрел на тарелку и спрашивал: «А как определить, какую рыбную палочку взять первой?»
Лечение помогло, но ненадолго — спустя год, в ноябре 1989-го, он снова вернулся в больничную палату: Уоллес сам позвонил другу и попросил отвезти его в клинику, потому что боялся, что «навредит себе». Как пишет биограф Д.Т.Макс, эти четыре недели ноября полностью изменили жизнь писателя: именно там, посещая собрания анонимных наркоманов, он почувствовал, что постепенно находит внутреннее равновесие. На сеансы Уоллес приходил с блокнотом и ручкой, сидел в углу и старательно записывал все, что говорили другие пациенты. Эти конспекты исповедей наркоманов, людей с поврежденной психикой, позже станут частью романа «Бесконечная шутка», работа над которым поможет Уоллесу выйти из депрессии — и войти в историю.
Как пишет биограф Д.Т.Макс, эти четыре недели ноября полностью изменили жизнь писателя: именно там, посещая собрания анонимных наркоманов, он почувствовал, что постепенно находит внутреннее равновесие. На сеансы Уоллес приходил с блокнотом и ручкой, сидел в углу и старательно записывал все, что говорили другие пациенты. Эти конспекты исповедей наркоманов, людей с поврежденной психикой, позже станут частью романа «Бесконечная шутка», работа над которым поможет Уоллесу выйти из депрессии — и войти в историю.
Как он пишет
© David Foster Wallace Literary Trust. Harry Ransom CenterВ одной из своих книг Уоллес заигрывал с метафорой пчелы: «Чтобы замереть, пчела должна двигаться очень быстро». Она отлично подходит для описания стиля самого Уоллеса — один из критиков очень метко назвал его noticing machine. И действительно, эта проза — череда бесконечных, многостраничных невротических перечислений и описаний. В обычной жизни мы замечаем только то, что, по нашему мнению, важно: парикмахер смотрит на прическу, стоматолог — на состояние зубов, портной — на одежду. В случае с Уоллесом все иначе — он, как борхесовский Фунес, фиксирует все сразу: движение, мурашки на коже, вздох, шрам на ключице, трещину на асфальте, ворсинки на ковре, поры на носу, капли конденсата на стакане с водой в жаркий день, пигментные пятна на внешней стороне ладони, засохший секрет конъюнктивы в уголке глаза, — его воображение всегда стоит в режиме макросьемки. В книгах Уоллеса есть описание варикозных вен на ногах незнакомки длиною в три абзаца и описание зевка — в два. Ему никогда не бывает достаточно одной метафоры — он слишком жаден, он выжимает из каждого предмета весь образный потенциал. Именно поэтому многие сцены в «Бесконечной шутке» кажутся многословными и избыточными и у читателя может возникнуть ощущение, что книга никуда не движется, что время как будто застыло и автор уже на протяжении трех страниц разглядывает одну и ту же мысль, подсвечивая ее с разных ракурсов.
В обычной жизни мы замечаем только то, что, по нашему мнению, важно: парикмахер смотрит на прическу, стоматолог — на состояние зубов, портной — на одежду. В случае с Уоллесом все иначе — он, как борхесовский Фунес, фиксирует все сразу: движение, мурашки на коже, вздох, шрам на ключице, трещину на асфальте, ворсинки на ковре, поры на носу, капли конденсата на стакане с водой в жаркий день, пигментные пятна на внешней стороне ладони, засохший секрет конъюнктивы в уголке глаза, — его воображение всегда стоит в режиме макросьемки. В книгах Уоллеса есть описание варикозных вен на ногах незнакомки длиною в три абзаца и описание зевка — в два. Ему никогда не бывает достаточно одной метафоры — он слишком жаден, он выжимает из каждого предмета весь образный потенциал. Именно поэтому многие сцены в «Бесконечной шутке» кажутся многословными и избыточными и у читателя может возникнуть ощущение, что книга никуда не движется, что время как будто застыло и автор уже на протяжении трех страниц разглядывает одну и ту же мысль, подсвечивая ее с разных ракурсов.
О чем книга
Главное, что нужно знать, открывая роман Уоллеса: словосочетание «Бесконечная шутка» здесь в некотором роде оксюморон — под обложкой вас, помимо прочего, ждет рассказ о том, что любое веселье конечно. В черновике книга называлась более красноречиво — «Неудавшееся развлечение», — но издатель отказался публиковать текст под таким заголовком, видимо, не желая давать критикам лишний повод для упражнений в остроумии.
Первые 200 страниц — это, на первый взгляд, хаотично смонтированная нарезка сцен, описаний и диалогов, которые сложно собрать в единую картину. Это звучит (и выглядит) нелепо: на всех литературных курсах будущих прозаиков учат тому, как важно правильно начать и завладеть вниманием читателя. Уоллес же, сам всю жизнь преподававший литературное мастерство, поступает с точностью до наоборот: он пишет текст, в котором первые двести-триста страниц героев нужно помечать закладками, чтобы не потерять их в темноте воображения.
Вся первая часть романа — своего рода фильтр. Растягивая вступление, делая его невыносимым, автор словно пытается отсеять лишних. В то же время такой подход придает названию — и всему тексту в целом — дополнительное постироническое измерение, ведь «Бесконечная шутка» — это книга о том, какой разрушительной силой обладает наша тяга к удовольствию.
Это очень густонаселенный роман, и все же в такой сложносочиненной конструкции видна четкая система. Действие по большей части замкнуто на двух героях — Гарольде «Хэле» Инканденце, юноше с выдающимися лингвистическими способностями и подающем надежды теннисисте, и Дональде «Доне» Гейтли, сидящем на димедроле грабителе, — и разворачивается в двух локациях — Энфилдской теннисной академии и реабилитационной клинике Эннет-Хаус.
Текст довольно симметричен и с архитектурной точки зрения: пока Хэл медленно скатывается в наркозависимость и дальше в безумие, Дон, напротив, отчаянно борется со своими демонами — ходит на встречи анонимных алкоголиков и пытается очистить кровь и разум от стимулирующих препаратов. На протяжении всего романа два героя как бы уравновешивают замысел автора: один постепенно теряет ясность, второй ищет способ ее обрести.
На этот сюжетный каркас Уоллес навинчивает многие другие научно-фантастические и антиутопические замыслы. Он переносит действие в недалекое для себя будущее — примерно 2008–2011 годы, — в котором общество потребления продало абсолютно все, даже календарь: теперь он субсидируется корпорациями, и вместо номера каждый год носит название фирмы, оплатившей «рекламное место», — например, «Год чудесной курочки Perdue» или «Год простого для установки апгрейда для материнской карты с миметичным качеством изображения ТП-систем INFERNATRON/INTERLACE для дома, офиса, или мобильного варианта от YUSHITYU2007 (ГПУАМКМКИТПСI/IД, О,МВY2007(s). )». Безумие творится не только в календаре: политики тоже окончательно тронулись умом — США, Канада и Мексика объединились в единое государство OНАН (Организация Северо-Американских Наций), и на гербе теперь — орел в сомбреро, который в одной лапе сжимает кленовый лист, а в другой — чистящие средства, символизируя тем самым крайнюю степень ипохондрии президента. Канада превратилась в свалку ядерных отходов и базу сепаратистов.
Все эти странные, причудливые и никак не связанные между собой сюжетные элементы Уоллес соединяет с помощью сквозного макгаффина — смертоносного фильма «Бесконечная шутка», зрители которого при просмотре в буквальном смысле умирают от хохота. Попытки отыскать или хотя бы отследить перемещения последнего сохранившегося картриджа с картиной в итоге задевают почти всех героев и добавляют в и без того запутанный сюжет еще больше шуму, истерии и по-настоящему безумного веселья.
Зачем это читать
Своим романом Уоллес открыл новое направление в американской литературе: его opus magnum — это вызов всей постмодернистской литературе с ее сарказмом, цинизмом и отказом от поиска смысла. Дэвид Фостер Уоллес — первый американский писатель, объявивший войну иронии («Ирония — это птица, полюбившая свою клетку»), и «Шутка» одновременно его манифест, попытка найти новый ориентир и упрек писателям старшего поколения. Еще в 1995 году в эссе, посвященном биографии Достоевского, он писал: «[эта книга] … побуждает нас спросить самих себя, почему мы требуем от нашего искусства иронической дистанции от глубоких убеждений или предельных вопросов, так что современные писатели должны либо шутить над ними, либо прикрываться формальными трюками вроде интертекстуальных цитат или неуместных сопоставлений, помечая реально важные вещи звездочками и уводя их в сноски, как какие-нибудь мультивалентные отстраняющие завитушки и тому подобную херню».
Дэвид Фостер Уоллес — первый американский писатель, объявивший войну иронии («Ирония — это птица, полюбившая свою клетку»), и «Шутка» одновременно его манифест, попытка найти новый ориентир и упрек писателям старшего поколения. Еще в 1995 году в эссе, посвященном биографии Достоевского, он писал: «[эта книга] … побуждает нас спросить самих себя, почему мы требуем от нашего искусства иронической дистанции от глубоких убеждений или предельных вопросов, так что современные писатели должны либо шутить над ними, либо прикрываться формальными трюками вроде интертекстуальных цитат или неуместных сопоставлений, помечая реально важные вещи звездочками и уводя их в сноски, как какие-нибудь мультивалентные отстраняющие завитушки и тому подобную херню».
В 1950-х, после того как культура пережила перезагрузку, постмодерн с его иронической дистанцией и культом неопределенности казался единственно возможным инструментом познания мира. Сегодня уже очевидно, что все это — эклектика, пародии, нарративные игры, деконструктивизм и вечное заигрывание с поп-культурой — больше не работает. И неслучайно название книги — это цитата из монолога Гамлета, который он произносит, глядя на череп Йорика. Вот и Уоллес написал свой тысячестраничный опус, глядя на голый череп постмодернизма
И неслучайно название книги — это цитата из монолога Гамлета, который он произносит, глядя на череп Йорика. Вот и Уоллес написал свой тысячестраничный опус, глядя на голый череп постмодернизма
Именно эта идея — призыв к искренности — стала скрепляющим раствором «Бесконечной шутки» и сделала ее одним из самых важных романов своего времени, а самого автора — национальным достоянием. Ирония, по Уоллесу, как анестезия: в малых количествах она действительно помогает притупить боль реальности и сохранить душевное и эстетическое равновесие, но стоит чуть превысить дозу — и получается постмодернизм, а дальше — чистое шутовство.
Современная литература, во главе которой стоят все эти «бесконечно остроумные, чудеснейшие выдумщики», избравшие ироническую дистанцию и считающие наивность ущербным чувством, нежизнеспособна; единственный способ ее победить и выиграть войну с энтропией «бесконечного остроумия» — быть честным и открытым, не прятаться за ухмылкой интеллектуала и не бояться собственной наивности; перестать принимать наркотик иронии всякий раз, когда тебе страшно смотреть на мир, — и начать воспринимать жизнь всерьез. Неспроста одна из самых важных фраз в романе звучит именно так — предельно серьезно и очень наивно: «Развлекайся сколько хочешь. Но выбирай с умом. Ты — то, что ты любишь. Разве нет? Ты целиком и полностью — то, за что ты готов умереть не раздумывая. Вот ты … за что ты готов умереть без раздумий?»
Неспроста одна из самых важных фраз в романе звучит именно так — предельно серьезно и очень наивно: «Развлекайся сколько хочешь. Но выбирай с умом. Ты — то, что ты любишь. Разве нет? Ты целиком и полностью — то, за что ты готов умереть не раздумывая. Вот ты … за что ты готов умереть без раздумий?»
Что он еще написал
Уоллес был мастером не только крупной формы: кроме двух завершенных романов он опубликовал три сборника рассказов («Девушка с любопытными волосами», «Короткие интервью с мерзкими мужчинами» и «Забвение») и несколько сборников эссе (самые известные из них — «A Supposedly Fun Thing Iʼll Never Do Again» и «Посмотрите на омара»), которые тональностью очень сильно отличаются от его больших вещей. Для романов характерна высокая плотность и эмоциональность текста, тогда как эссе и рецензии полны юмора и иронии, а рассказы и вовсе выглядят как холодные и схематичные размышления автора на темы депрессии, суицида и современных медиа. Свой третий роман «Бледный король» Уоллес писал почти двенадцать лет: он начал его еще в 1996 году, почти сразу после публикации «Бесконечной шутки», но так и не завершил. 12 сентября 2008 года после многолетней борьбы с депрессией он покончил с собой — повесился в патио собственного дома.
Свой третий роман «Бледный король» Уоллес писал почти двенадцать лет: он начал его еще в 1996 году, почти сразу после публикации «Бесконечной шутки», но так и не завершил. 12 сентября 2008 года после многолетней борьбы с депрессией он покончил с собой — повесился в патио собственного дома.
Семь причин прочитать «Бесконечную шутку» Уоллеса
Политика публикации отзывов
Приветствуем вас в сообществе читающих людей! Мы всегда рады вашим отзывам на наши книги, и предлагаем поделиться своими впечатлениями прямо на сайте издательства АСТ. На нашем сайте действует система премодерации отзывов: вы пишете отзыв, наша команда его читает, после чего он появляется на сайте. Чтобы отзыв был опубликован, он должен соответствовать нескольким простым правилам:
1. Мы хотим увидеть ваш уникальный опыт
На странице книги мы опубликуем уникальные отзывы, которые написали лично вы о конкретной прочитанной вами книге. Общие впечатления о работе издательства, авторах, книгах, сериях, а также замечания по технической стороне работы сайта вы можете оставить в наших социальных сетях или обратиться к нам по почте [email protected].
Общие впечатления о работе издательства, авторах, книгах, сериях, а также замечания по технической стороне работы сайта вы можете оставить в наших социальных сетях или обратиться к нам по почте [email protected].
2. Мы за вежливость
Если книга вам не понравилась, аргументируйте, почему. Мы не публикуем отзывы, содержащие нецензурные, грубые, чисто эмоциональные выражения в адрес книги, автора, издательства или других пользователей сайта.
3. Ваш отзыв должно быть удобно читать
Пишите тексты кириллицей, без лишних пробелов или непонятных символов, необоснованного чередования строчных и прописных букв, старайтесь избегать орфографических и прочих ошибок.
4. Отзыв не должен содержать сторонние ссылки
Мы не принимаем к публикации отзывы, содержащие ссылки на любые сторонние ресурсы.
5. Для замечаний по качеству изданий есть кнопка «Жалобная книга»
Если вы купили книгу, в которой перепутаны местами страницы, страниц не хватает, встречаются ошибки и/или опечатки, пожалуйста, сообщите нам об этом на странице этой книги через форму «Дайте жалобную книгу».
Недовольны качеством издания?
Дайте жалобную книгу
Если вы столкнулись с отсутствием или нарушением порядка страниц, дефектом обложки или внутренней части книги, а также другими примерами типографского брака, вы можете вернуть книгу в магазин, где она была приобретена. У интернет-магазинов также есть опция возврата бракованного товара, подробную информацию уточняйте в соответствующих магазинах.
6. Отзыв – место для ваших впечатлений
Если у вас есть вопросы о том, когда выйдет продолжение интересующей вас книги, почему автор решил не заканчивать цикл, будут ли еще книги в этом оформлении, и другие похожие – задавайте их нам в социальных сетях или по почте [email protected].
7.
 Мы не отвечаем за работу розничных и интернет-магазинов.
Мы не отвечаем за работу розничных и интернет-магазинов.В карточке книги вы можете узнать, в каком интернет-магазине книга в наличии, сколько она стоит и перейти к покупке. Информацию о том, где еще можно купить наши книги, вы найдете в разделе «Где купить». Если у вас есть вопросы, замечания и пожелания по работе и ценовой политике магазинов, где вы приобрели или хотите приобрести книгу, пожалуйста, направляйте их в соответствующий магазин.
8. Мы уважаем законы РФ
Запрещается публиковать любые материалы, которые нарушают или призывают к нарушению законодательства Российской Федерации.
Постмодернизм и всё такое | Дан Воронов
Мысли после встречи курса по современному искусству 17/5 и этих источников:
жизнь это сад расходящихся тропинок
сегодня ты один, а завтра — другой
«Родившись вначале как феномен искусства и осознав себя сперва как литературное течение, постмодернизм затем был отождествлен с одним из стилистических направлений архитектуры второй половины века, и уже на рубеже 1970-х — 80-х годов стал восприниматься как наиболее адекватное духу времени выражение и интеллектуального, и эмоционального восприятия эпохи. »
»
Постмодерн это то, что пришло после просвещения и этих ваших наук — это противоречивость современной жизни в мире и в сети. Постмодернизм предполагает что к чему-угодно можно подобрать больше одного определения/ответа, включая вариант отсутствия этого ответа и все варианты одинаково важны или одинаково не важны.
Короче, когда тут ничего не понятно однозначно, это нормально. Однозначности теперь нема (странно что эта фраза может быть однозначна).
Начинается все с того, что эти два слова могут быть синонимами, а некоторые прям убиваются что нет:
- Постмодерн выражает состояние культуры и мироощущения людей. Это ситуация. То есть название того что случилось с миром, куда мы медленно вкатились из модерна и заметили это где-то в годах 1960-ых.
- ПостмодернИЗМ — теоретическая рефлексия эпохи — совокупность воззрений и манифестируемых явлений в современном искусстве и современной философии, отстаивающих определенную совокупность идей мироощущения.

- так как выше это идея Лиотара. Иногда встречал, что наоборот. Это не важно.
Постмодернизм можно разделить на феномены/методологию в искусстве и на набор мыслей в философии.
Стоявшие у его истоков изначально сказали, что теперь нет одной философии, мы каждый что-то свое делаем и вообще «Постмодернизм – понятие слишком неопределенное«. Самостоятельного течения, которое можно обозначить как “постмодернизм”, не существует.
уклоняется от обобщений
Любое определение, это обобщение до всеобщей Истины — такой себе универсализм. В постмодернизме у нас будет как бы определение. Стеб над определением.
Все это может идти в предпосылки расширения свободы как противопоставления власти. Определить — применить власть и убрать свободу.
Определить мы постмодернизм можем только в модернизме (там где научная рациональность). Часто постмодернизм рациональными методами из модернизма критикует модернизм.
Еще используют философы идею постструктурализма как базиса постмодернизма. Вообще они много слов используют.
Вообще они много слов используют.
Когда-то мы стали сомневаться и так перешли в эру модерна. Вдруг мир стал обеспечиваться не Богом и верой, а критерием научности и эксперимента. Просвещение поставило целью эти знания распространить на широкие массы, научить их читать, писать, думать, работать. И это привело к многим интересным последствиям (конвейеры, города, специализации, компьютеры). Включая знаменитое от Ницше «Бог мертв» и теорию естественного отбора от Дарвина. Культы целеполагания, эффективности, эволюции, роста.
И всё было хорошо, пока все больше и больше мыслителей не задалось вопросом «а почему мы решили что мир есть, почему мы остановились и стали измерять материальные объекты?». И это действительно был тупик, ведь наука подошла к нему и стала не такой логичной и стройной как раньше. Электрон вел себя и как частица и как волна, а потом вдруг в квантовой физике пришлось включить наблюдателя. Знания о мире — продукт группы людей, произвол их власти над другими.
По сути мы пришли к сомнению, где «реальность мертва» или по другому «реальность не реальна«. Это еще совпало с массовым употреблением LSD пока его не запретили.
Вот этот кризис реальности стали отражать и художники. Почти сразу они врезались в язык. Не в тот язык, который слова, а в широком смысле — с помощью чего мы познаем? и делимся этим познанием. Исследовать «существует только язык». Что такое язык повседневности, как он зависит от власти. Язык и текст. «Сон есть текст» Лакана.
Постмодерн это куда более сомневающиеся люди. Мы ставим себе за исходное «реальность сомнительна» и «любые знания заслуживают подозрения» от этого мыслим.
Полемическое пространство, где в состоянии вечного соперничества разнородные концепции оспаривают друг у друга право на роль наиболее авторитетной системы аргументации, но никогда к ней не приходят.
И не факт, что человек со своими мыслями это центр чего либо.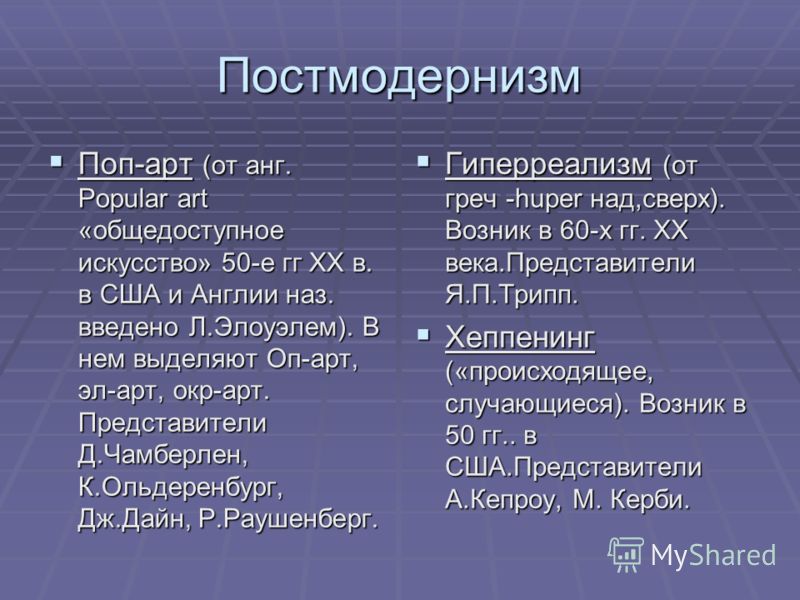 Субъекта и объекта тоже нет.
Субъекта и объекта тоже нет.
Насколько плоско
Центральная идея, которую нарыли и о которой сильно спорили — «структура наших знаний произвольна«. (мир неиерархичен)
Мишель Фуко он и не хотел этого б придумывать, но он был мазохист и гомик, его немного беспокоило что с ним — поэтому сидел в библиотеке и читал о безумии. Захотел как-то это упорядочить исторически. Оказалось «история полна дыр» и «нет логической причины почему» сначала их держали при дворе, потому убрали в тюрьмы, потом переместили в больницы. Есть смена этих восприятий. Задумался о раскрытии тайной структуры знания, принадлежащей определенному историческому периоду.
Знание, в определении Фуко, — это исторически подвижная система упорядочивания вещей через их соотнесение со словами.
В это же время в штатах Томас Кун пришел к идеи «научная парадигма» и их сменам. Если раньше земля была в центре космоса, то она там реально была. У него правда не было таких сомнений, он как нормальный ученый считал что парадигмы сменяясь приближают нас к Истине и Земля была где была, мы просто об этом не знали.
А у Фуко Истина оказалась локальна (ввели страшные слова для этих локальностей у которых я упоминать не буду). Каждая конкретная истина является истиной для того конкретного момента, когда она была осознана. Эта истина может содержать в себе недостатки, пробелы и даже противоречия, но до тех пор, пока она применима к соответствующей области знания, она будет оставаться общепринятой.
Деррида: по большому счету, мы не можем установить опытным путем причинно-следственную связь. Что мы в действительности наблюдаем – это то, как одно явление следует за другим во времени, а не то, что одно явление является причиной или следствием другого.
Не то, чтоб структуры языка нет — она есть, но она следствие применение какой либо власти и подчинения. Власть дает ложные формы универсиализма. Освободившись каждый имеет свободу переделать этот произвол по другому — агент не только жертва применения норм на него. Под это еще вылезли «женщина тоже человек».
Под это еще вылезли «женщина тоже человек».
«Главной функцией власти является нормализация общества.» Власть в нашем обществе становится анонимной и неуловимой — это теперь не полиция/войны и даже не человек, это отформатированное мышление, которое распространяет свой формат.
Наука (как нацизм и коммунизм) это одна из историй. «there is no Big Story and its OK» — существуют и другие. Их подавляли, а людей по другому собирающих историю называли безумцами. Задача философов в постмодерне — показать «как легко мы соглашаемся с» какой-то информацией. Как мало мы о себе знаем: что лично я имею в виду под справедливостью, равенством, свободой, удовольствием?
В общем все дружно сказали «какая еще Истина, если всё так меняется». Мы можем как угодно выбрать центр, локальную истину, и все остальное сместить в периферию. Существующая на сегодня структура и выбор центра ничем не подкреплены — мы тоже так можем. Завтра они могут быть совсем другим. У нас нет гарантии точности наших структур. Вся ваша наука — большой произвол.
У нас нет гарантии точности наших структур. Вся ваша наука — большой произвол.
Ризома — фигура, в которой каждая точка связана с каждой иной точкой в беспорядочный клубок — противополагается базовой метафоре прежней философии – метафоре дерева. Теперь все «главные», нельзя выделить ни начала, ни конца, ни центра, ни центрирующего принципа («генетической оси»), ни единого кода.
По словам У. Эко, выстраивая мир романа «Имя розы» как «пространство догадки», он опирался именно на понятие ризомы.
Мир без единого правильно
Размышляя так мы попадаем в мир периферии со своими небольшими центрами. Так думал и Жан Лиотар, который решил что больше не может быть сценария жизни, правильного для всех (а были ли они?). Во всяком случае мы получаем прививку от «наша нация самая лучшая», «все должны жить в коммунизме», «я не гей», итд. Освенцим тогда не на шутку перепугал людей.
В постмодерне «задачей социальной политики становится не насильственная унификация множественности в единое «коллективное тело» социума и даже не поиск универсального языка для возможности диалога между ними, но сохранение именно этой разнородности. »
»
Мантра постмодернизма — «не наделять ни одну позицию господствующим статусом«. Ну вы помните про сомнения, да. Нет больше одной философии. (если изучали соционику, то это яркий пример как она развалилась на школы и трактования)
Наш мир — это мир разнообразного несогласия. Меньше власти — больше свободы.
Деррида: нам следовало бы подумать не о том, что слова означают, а сколько всего они могут означать. Вообще, он в отличии от Фуко считал, что «любой текст можно интерпретировать любым образом«. Плавающий центр — возникает то здесь, то там в зависимости от того как мы смотрим.
Если структуралисты пытались обнаружить во всех областях реальности устойчивые порядки (структуры и системы), то постструктуралисты подвергают критике само понятие “структура”. Вместо поиска “структур” они предлагают гибкие исследовательские стратегии, позволяющие избежать иерархического упорядочивания реальности.
Модернистское стремлении найти обоснование нашего знания или наших верований предложили заменить на понимание языковой игры, действующей в том или ином конкретно-историческом сообществе индивидов. Сколько что может означать — рассмотрение динамического процесса «означивания».
Сколько что может означать — рассмотрение динамического процесса «означивания».
ЧТО МЫСЛИТ ВМЕСТО МЕНЯ?
Познаем мир через язык, который историчен.
Интересны исследования не иерархии структуры, а самого процесса (де)структурирования. Суть упражнений в постмодернизме — переворачивание с ног на голову какой-то концепции после пересмотра какого-то её элемента (деконструкция).
Диффузия границ
Если мы можем произвольно выбирать центр, то и связи тоже. Идеи могут кочевать. То, за что в науке убивали — смешивание направлений, в постмодернизме это норма и интересное упражнение. И смешивание старого и нового.
Кстати, из всего еще следует, что и автора нет — «смерть автора«. Наравне можно использовать и свое и чужое. Вообще, с чего вы взяли что сейчас вы говорите свою мысль? Вы и я мы просто ретранслируем то, что уже есть. Не указывая и не осознавая источников.
Этот ваш фейсбук, копипаста и ироничные мемы — всё про это.
Всё можно скрестить со всем и посмотреть что получится. Фрагментарность. В литературе теперь возможна тотальная цитатность и интертекстуальность. В музыке диджеинг. Бесконечное перебирает уже существующего. Внести можно что угодно откуда угодно.
А еще если сама наука занималась приведением в строгое соответствие своих структур, то тут можно противоречить самому себе хоть в каждом предложении. Непоследовательные стыки что-то да и дадут. Кто его поймет что реальнее. Порядок может меняться.
Высокое и массовое искусство
Интересное следствие этого — мысль в статье «Пересекайте границу, засыпайте рвы», которая (как обычно сомнительно) считается манифестом постмодернизма. Статья была опубликована в журнале Плейбой и говорила о том, что пора прекратить делить искусство на элитарное и массовое. Мы можем коммуницировать высший смысл на языке плебеев.
Или другими словами — чё тебе впадло добавить еще и развлекательность для тех, кто не въезжает и живет в «обществе спектакля». Интеллектуал должен снизойти до толпы и слиться с ней, но при этом не затеряться. Массовая среда может быть весьма питательна поставляя свой сырой материал. Ты можешь придать какой тебе надо смысл этой смеси.
Интеллектуал должен снизойти до толпы и слиться с ней, но при этом не затеряться. Массовая среда может быть весьма питательна поставляя свой сырой материал. Ты можешь придать какой тебе надо смысл этой смеси.
Современный художник не работает в одной сфере, он может выражаться чем угодно где угодно для кого угодно.
Слоеность произведений — возможность делать так, чтоб при входе (чтении книги, просмотре фильма) из разных контекстов _ извлекался разный смысл. То есть этот ваш широкий зритель считает свое, интеллектуал свое, а любитель истории кино свое. С каждым у нас тут идет диалог. Ну и попробуйте так создавать искусство?
Постмодерн ярко поднялся с революцией 1968 во Франции. в 2010 году где-то в середине своего заката. Хотя спорно, кто-то говорит что он уже умер.
Эко-сознание и приятный дизайн (человечность технологий) некоторые называют следствием наступления постмодерна и его критике модерна. Теперь капитализм еще и старается сохранить окружающую среду, не быть таким эгоцентричным.
Почему происходит закат постмодерна? Одна из версий в том, что он помог нам войти в виртуальные реальности, говоря что реальность не реальна. Теперь же наоборот получается: не реальная реальность фейсбука (а не конкретный человек!) способна порождать и координировать революции затрагивающие многие страны. Теперь нереальность становится реальна. Мы постепенно входим в кризис нереального. Когда искусственный интеллект сможет отвечать как собеседник в чате вот будет разрыв мозгов.
Наука продукт модерна и в постмодерне хорошо развивается. Кое где (типо России) вообще мало научно-образованных людей. В Европе и США много людей учатся в школе, имеют одну специализацию, верят в что-то рациональное (обычно в эффективность и прогресс, в целенаправленность жизни). Конечно же при этом у них закрадываются сомнения, что что-то не так. Вот к этим сомнениям и обращается постмодернистское искусство.
Наука, школа и технология вместо освобождения масс наоборот привела к их стандартизации, упрощению и тем самым упрощает доминирование одних людей над другими. Притом тонкое доминирование через софт-идеологии. Через денежную систему и планирование. Через то, что не «должен делать», а «должен хотеть делать» — современные СМИ с рекламой они лезут уже в мотивацию. «Вы полюбите это покупать» В развитых странах ты должен наслаждаться своим подчинением.
С одной стороны вроде хорошо бороться против тираний и знающих «как правильно всем», с другой получается что таким подходом я знаю «как правильно всем». Так что некоторые философы двинулись в исследования микрополитики — создание арен для сбора участников творения нового словаря языка.
Автор изначально может понимать, что он «умер» и не относится так серьезно к своей/чужой хрене и копирайтам. Автор может «меняться с каждым предложением». Если все направления равны, права на Истину нет ни у кого, то можно использовать любые наработки, не заморачиваясь их идеологической или иной подоплекой. Все равно случайность выше его таланта. Да и существует куча людей в своих локальностях, которым его творение до одного места.
Хватить гоняться за фреймвораками как двигаться и расти к чему-то, который поддержит твою жизнь и гонку за этими пустыми ценностями. «Нет больше Истиного и это нормально».
Любимое занятие постмодерниста — оторвать что-нибудь от контекста, переворачивание с ног на голову какой-то концепции.
Ценность постмодерн искусства в балансировании — «не будьте такими серьезными«. Слишком много чего угодно не гуд. Если делаем богохульство, то не потому что художники не верят в Бога, а для того, чтоб показать на этих радикалов, которые безоговорочно верят. То же самое про боязнь геев. Короче если они троллятся и ведутся, то именно из-за серьезного отношения.
Произведение постмодернизма по своей сути представляет собой высмеивание, стеб — но не всегда явный. Иногда с очень покер-фейс.
Критика рациональности и модерна. Передача идеи «Нам только кажется что мир логичен и его можно описать«. «Отрицая модернистский поиск смысла в хаотическом мире, автор постмодернистского произведения избегает, нередко в игровой форме, саму возможность смысла, а его произведение часто является пародией этого поиска.» Пусть они сомневаются что это было. Сомнение это то результат, к которому можно стремится.
«Современным я буду называть такое искусство, которое использует свою «малую технику» для того чтобы представить «имеется нечто непредставимое» (Лиотар).
Интерес в опыте/проживании, а не в заключении/выводе. Часть искусства становиться процессуальным, импровизационным, сиюминутным. Событийность и телесность возрастает.
Направлениями
«Произведения искусства постмодернизма создается автором в расчете на то, что хоть кто-то найдет в нем хоть какой-нибудь смысл.» — но теперь многое не про смысл «понимать тут ровным счетом нечего».
Рисованные сериалы вроде Симпсонов, Футурамы и Сауз-парка — сущность постмодернистского стеба. Хотя чтоб их полностью собирать из отсылок надо жить в американском контексте. У нас же близко к этому троль «мистер Фримен».
Цитатность кино. Де Пальма тырил у Хичкока не просто ракурсы, а целые эпизоды, при этом, понятно, наполняя их другим смыслом. Линч и Тарантино сильный постмодернизм — кино при отсутствии кино. Тарантино понятен даже дебилам, а Линч непонятен никому.
Хорошо делать слои, фрагментацию и нелинейное повествование. История разбивается на части. Принято смешивать реальное и не реального. Разоблачения мира. Вот например кино Матрица — яркий пример. Или Начало. В таком искусстве люди превращаются в машины, в зомби, в мутантов. Инопланетяне, которые поселяются в чел.телах. Совершенно разные фантастические фильмы.
Возникновение жанра псевдодокументалистики. Фабуляция — изначально психологический термин, означающий смесь вымышленного с реальным (в речи и памяти).
В литературу вошел пастиш — вторичное произведение, являющее собой продолжение либо иную сюжетную версию первичного (авторского) с сохранением авторского стиля, персонажей, антуража, времени. Ремейк может быть такой, что мало кто узнает в нем оригинал. Притом может происходит самопорадирование.
Гессе «Степной волк», Уильям С. Берроуз «Голый завтрак«, Виктор Пелевин «Поколение П» и другие годные творения литературы. Ключи интерпретации не предполагаются, текст сделан не для выражения великого смысла. Это и ирония и присутствие.Карлос Кастанеда это еще то произведение. Даже не понятно было оно на самом деле.
Театр становится постдраматическим уходя от передачи смысла к проживанию присутствия, демонтажу прошлых произведений. Усиление роли импровизации и желание словить момент и настрой зрителя.«Лысая певица» Эжена Ионеско является, по сути, набором клише из учебника английского языка. Среди драматургов, работавших в конце XIX — начале XX века и повлиявших на эстетику постмодернизма, были швед Август Стриндберг, итальянец Луиджи Пиранделло и немецкий драматург и теоретик Бертольт Брехт.
Возникает акционизм и префоманс. Театр лучше всего может проотрицать время. Политический акционизм своими абсурдными выходками показывает на определенный перекос от баланса от свободы в обществе. Вроде выступления ПусиРает в церкви.
Постмодернизм в живописи – наличие готовой формы, художники заимствуют образы из классических традиций, но дают им новую интерпретацию. Комбинируют формы из разных стилей, иронизируя над миром, а так же оправдывая тем самым свою вторичность. Любая картина становится инсталляцией, так как она висит в каком-то пространстве на какой-то стене.
Вообще возрастает роль инсталляций — пространственных композиций, созданных из различных элементов и являющую собой художественное целое. Искусство может выходит из галерей и презентоваться в любых пространствах.
Музыка. Яркий пример — Army of Lovers. Порногейсадомазо описание религиозных сюжетов. Персонажи со специфической внешностью. Это было прям попсой — все смотрели. Певец при этом является социологом и занимается какой-то умной деятельностью, ездить по конференциям.
Со слов очевидцев у музыкантов kraftwerk иногда случались помешательства что они роботы/машины и не реальны. Использовали манекенов на обложке картины, на фотосессиях.
В архитектуре ушли от функциональных коробок и теперь опять можно смешивать всякое и украшательства излишнее добавлять. Интересный пример — Лас Вегас, где в миниатюре «процитированы» другие творения. Новые дома могут иметь причудливые гнутые формы. Или выносить коммуникации наружу.
(Visited 1 698 times, 1 visits today)
Лурк против сатанинского ЧСВ: badbeliver — LiveJournal
- Меньше ада — блог плохой христианки (badbeliver) wrote,
Меньше ада — блог плохой христианки
badbeliver
Меня это не может не волновать, потому что я — преданный луркофанат, и одним из величайших своих достижений считаю ссылку с Лурка на свою жежешечку.
Я недавно думала о том, что то мировоззрение победит в этом мире, которое невозможно будет затроллить на Лурке. Прямо вот так думала: «Надо прожить жизнь так, чтобы тебя невозможно было затроллить на Лурке».
Мне кажется, что всяким охранителям неймется прикрыть Лурк потому, что несмотря на троллинг, постмодернизм и деконструкцию, Лурк несет НЕЧТО утверждающее, и притом очень важное.
Лурк – как лакмусовая бумажка для фальши и пафоса. Поэтому он такое опасносте для существующего порядка вещей, в котором фальши и пафоса вагон и маленькая тележка. И эти вагон с тележкой явно сатанинские, потому что фальшь и пафос – главные качества сатаны: из-за обострения ЧСВ (гордыни) дьявол вылетел с небес, а мы – из рая, а про ложь известно, что «дьявол есть ложь и отец лжи».
Поэтому, как бы то ни было, Лурк победит, а от гонений только выиграет. Я гарантирую это.
Притча о блудном сыне как история человечества
…Действительно, Бог мешает людям наслаждаться жизнью. Бог говорит: «Не прелюбодействуй, не кради, чти отца и мать, жертвуй, милуй,…
МАТИЛЬДА: БЕЗ ЦАРЯ В ГОЛОВЕ
(с). Александр Сергеевич Продолжая размышления о грядущем сериале. Со стороны человека нецерковного выглядит так, что даже если бы кто стоял…
КАЗЕННОЕ ПРАВОСЛАВИЕ
Автор: Василий Бурандасов Источник «Немного собственных наблюдений о том, какое место в современной России занимает православие, только…
Photo
Hint http://pics.livejournal.com/igrick/pic/000r1edq
Дэвид Фостер Уоллес, «Бесконечная шутка» (Infinite jest)
Почти два килограмма слов.
Что не требует усилий — не заслуживает усилий.
На протяжении 2-х лет я таскал в своем рюкзаке почти два килограмма слов — у этих килограммов есть название: «Infinite Jest» [1*]. Конечно, у меня была и электронная версия, но с ней дела шли очень плохо — читать «Бесконечную шутку» с экрана, это как пытаться рассмотреть «Гернику» Пикассо сквозь замочную скважину. Поэтому я и приобрел бумажный вариант — дабы иметь возможность помечать героев разноцветными закладками (так хозяева цепляют на своих собак светящиеся ошейники, чтобы не потерять их в темноте), делать выписки на полях, ну, и — швырять книгу в стену всякий раз, когда потеряю связь с текстом. То есть — довольно часто.
—-
[1*] FN: строго говоря, книга весит 1450 грамм, но я сильно округлил в большую сторону, чтобы добавить фразе ритма, а тексту — драматизма; извините.
—-
На протяжении 2-х лет я таскал в своем рюкзаке почти два килограмма слов. Это довольно тяжело, учитывая, что и без них мой рюкзак под завязку набит барахлом. Барахла было больше чем слов, но слова — тяжелее. Они всегда тяжелее. Особенно если речь идет о книге, которую ты никак не можешь добить. Как там говорят? Ничто не мучает сильнее, чем неоконченное дело.
Правильно говорят.
Но я перефразирую: сильнее неоконченного дела могут мучить только боли в спине, вызванные тяжестью неоконченного дела.
Почти два килограмма слов в моем рюкзаке — это было тяжело еще и потому, что я никак не мог от них избавиться. В какой-то момент я решил, что буду всегда и везде носить эту книгу с собой, пока не дочитаю. Это решение хорошо сказалось на скорости чтения, и плохо — на позвоночнике (мои межпозвоночные диски передают тебе привет, Уоллес; они тебя ненавидят).
Знакомые видели «талмуд» и спрашивали:
— Почему ты так хочешь прочитать эту книгу?
Ответ был один (он всегда один):
— Потому что она существует.
вот так выглядит мой экземпляр «Шутки…» Каждый цвет привязан к одному из главных героев. Ближе к концу нужда в них просто пропала, поэтому во второй половине книги их меньше.
***
Неподготовленный читатель, пробежав глазами по ключевым точкам биографии Уоллеса, будет (вероятно) очень удивлен, увидев в самом конце запись о самоубийстве. И правда — краткий пересказ жизни ДФУ выглядит так, словно речь идет о самом удачливом писателе двадцатого века.
Ребенок из профессорской семьи (Отец — философ, профессор Иллинойского университета. Мать — преподаватель английского языка, профессор Паркленд-колледжа в Шампейне), выросший в стенах дома с огромной библиотекой. Мальчишка, чьи родители перед сном читали «Улисса» Джойса (!). Сложно придумать более подходящие условия для будущего гения. И дальше — все в таком же духе: круглый отличник, медалист, но не просто очкарик с книгами наперевес, нет, он еще и успешный, подающий надежды теннисист.
Потом — университет, и снова фамилия «Уоллес» неизменно в первой строчке в списках успеваемости. Специалист по Витгенштейну, он пишет дипломную работу, которая (под воздействием книг Пинчона) постепенно перерастает в первый роман The broom of the system («Метла системы») [2*]
—
[2*] У названия здесь двойное дно. Во-первых, в самой книге идея «метлы» обыгрывается как логическая/языковая задача в стиле Витгенштейна, а во-вторых: «метла» — семейная шутка Уоллесов: бабушка Дэвида пыталась убедить его есть больше яблок, и ее главный аргумент звучал так: «Come on, it’s the broom of the system» («ну же, это метла системы» — здесь имеется в виду, что яблочная клетчатка прочищает ЖКТ).
—
И — невероятное везение — первый роман ДФУ тут же покупают, и не кто-нибудь, а нью-йоркское издательство Viking Press.
Литературный успех, в 25 лет. Книга выходит довольно большим тиражом, ее неплохо раскупают, критики сравнивают вундеркинда с Пинчоном (и не напрасно: «Метла системы», по сути оммаж «Лоту 49», Пинчон-лайт, с аппендиксом в виде отсылок к Витгенштейну).
Дальше — затишье длиной в несколько лет, проблемы с алкоголем и наркотиками, поиск собственного голоса и попытка исчерпать все приемы пост-модерна в сборнике «Girl with Curious Hair» («Девушка с любопытными волосами»).
1996-й год, второй роман, и снова успех. На этот раз — оглушительный, как грохот проезжающего поезда. В 34 года.
«Бесконечную шутку» еще за год до выхода в прессе называли шедевром, the Great American Novel, а автора — гением (что, кстати, очень нервировало ДФУ: «а что если я не гений? Что тогда? Что если книга выйдет, и все скажут, что она дерьмовая? Как вы будете выкручиваться?» — спрашивал он у редактора по телефону). Среди редакторов издательства «Литтл, Браун» о размерах книги ходили легенды — больше полумиллиона слов! 1000 страниц мелким шрифтом. [3*] Роман, впитавший в себя все тревоги поколения.
—-
[3*] Есть известная байка (скорее всего правдивая): когда менеджеры издательства «Литтл, Браун» собрались на совещание, посвященное грядущему изданию «Шутки», директор на полном серьезе спросил: «скажите, а кто-нибудь вообще прочитал эту книгу дальше 70-й страницы?». Руку поднял только редактор Уоллеса Майкл Питч.
——
Варианты обложки «Шутки…», созданные фанатами.
—-
И вот — книга в магазинах. Критики напуганы — но не самим текстом, а его размерами [4*]. Все признавали мастерство автора, его огромный интеллект и потрясающую эрудицию, но почти никто ничего не мог сказать по существу. А что тут скажешь? 1079 страниц мелким шрифтом, рваный нарратив и безумный монтаж, вечные сноски и сноски на сноски и сноски на сноски на сноски (всего 388 штук), полное отсутствие хронологии, теннис, наркотики, политика, сатира, конспирология, математика (Уоллес умудрился вставить в роман доказательство теоремы средних значений; и даже игру придумал на основе этой теоремы). Единодушны критики были только в одном: эта книга способна свести вас с ума.
—-
[4*] Сам Уоллес относился к реакции критиков с юмором. Вот, например, фрагмент из интервью 1996 года:
Уоллес: Вы прочли книгу?
Журналист: У меня пока не было возможности, но наш рецензент только что закончил ее читать.
Уоллес: Снимаю перед ним шляпу. Скажите ему, что «Экседрин» лучше всего помогает при переутомлении глаз.
—-
Реакция со стороны читателей была более однозначной и красноречивой — толпы и толпы людей приходили на публичные чтения. Люди стояли в огромных очередях, чтобы увидеть/послушать его. Не читатели — фанаты. Дэвид Фостер Уоллес, очкарик, вундеркинд и специалист по Витгенштейну, в одночасье стал рок-звездой от литературы.
Во многом этому способствовали его а) молодость б) внешний вид и в) манера общения.
ДФУ не занимался мистификациями, не напускал туману в свое прошлое, не эпатировал, не заигрывал с публикой и не прятался на отдаленном ранчо. И этим он сильно отличался многих других культовых американских писателей — он был, что называется, свой. Американская молодежь девяностых нашла себе нового кумира — гений, которому едва исполнилось 34. В 1996 году «Бесконечная шутка» стала бестселлером (феноменальный результат для книги объемом в пол миллиона слов и весом в 1.5 килограмма). Истерия вокруг его персоны достигла таких масштабов, что ему приходилось каждую неделю менять номер телефона, потому что читатели (т.е. фанаты) каждый день звонили ему, чтобы обсудить роман. Его собственные студенты раз в год устраивали «день Уоллеса», одевались как он — банданы, рваные джинсы, ботинки с висящими шнурками.
И дальше — только вверх. В 1998-м году ДФУ получает стипендию Мак-Артура (так называемую премию гениев). С годами интерес к его «Бесконечной шутке» не утихает, наоборот — книга неплохо продается, ее постоянно допечатывают, о ней пишут диссертации, выходят путеводители по роману, фанаты открывают сайт Wallacewiki, куда выкладывают свои версии того, что значит концовка «Шутки» (на данный момент существует четыре «канонические» равновероятные интерпретации концовки романа).
Постепенно ДФУ, вопреки своей воле, становится медиа-персоной. «Шутка» заполняет нишу идеального романа «обо всем», он попадает во все возможные хипстерские и гиковские списки обязательного чтения, а его имя и название романа начинают мелькать в телевизоре в качестве отсылок и аллюзий [5*].
——
[5*] И да, у Уоллеса, как и у Пинчона и Геймана, есть камео в «Симпсонах».
——
Приходят нулевые, среди фанатов активно ходят слухи, что ДФУ уже много лет работает над еще одним монструозным романом — романом о скуке («Бледный король», неокончен, опубликован посмертно в 2011 году).
И вдруг — самоубийство. Дэвид Фостер Уоллес — вундеркинд, «рок-звезда» американской литературы — повесился в патио собственного дома 12 сентября 2008-го года.
***
На этом — в 2008-м году — обрывалась его довольно краткая биография. В ней не было ни слова о том, что писатель всю жизнь страдал от биполярного расстройства и еще в молодости пытался покончить с собой; а так же — ни слова о том, что именно первая попытка самоубийства стала, пожалуй, отправной точкой для написания «Бесконечной шутки».
В октябре 1988 года 27-летний Дэвид Уоллес проходил курс лечения депрессии. Таблетки не давали результатов, и однажды ночью он просто съел упаковку снотворного, Ресторила. Его откачали, и так он (уже во второй раз) попал в психиатрическую клинику, где пережил несколько сеансов шоковой терапии. Электрошок повредил его кратковременную память. Повредил настолько, что иногда во время обеда он растерянно смотрел на тарелку и спрашивал: «а как определить, какую рыбную палочку взять первой?»
Лечение помогло, но ненадолго — спустя год, в ноябре 1989-го он снова вернулся в больничную палату (он сам позвонил другу и попросил отвезти его в клинику, потому что боялся, что «навредит себе»). И, как пишет Д.Т.Макс, эти четыре недели ноября полностью изменили жизнь писателя. Именно там, посещая собрания анонимных наркоманов, он почувствовал, что постепенно находит внутреннее равновесие. На собрания он ходил с блокнотом и ручкой, сидел в углу и старательно записывал все, что говорили другие пациенты. Эти записки, конспекты исповедей наркоманов, людей с поврежденной психикой, позже станут частью романа, Infinite jest, романа, работа над которым поможет Уоллесу выйти из депрессии и — войти в историю.
***
Главное, что нужно знать, открывая роман Уоллеса: автор не собирается вас развлекать. Словосочетание «бесконечная шутка» здесь — в некотором роде оксюморон; в том смысле, что под обложкой вас, помимо прочего, ждет рассказ о том, что любое веселье конечно. И конец у него невеселый. В черновике роман назывался более красноречиво — «Failed entertainment» («Неудавшееся развлечение») (издатель отказался публиковать книгу под таким заголовком, видимо, не желая давать критикам лишний повод для упражнений в остроумии).
Первые 200 страниц книги — это (на первый взгляд) хаотично смонтированная нарезка сцен, описаний и диалогов, из которых решительно нихрена не понятно. Знаете, бывает так: заходишь в кинозал через час после начала сеанса, и потом весь фильм дергаешь соседа за рукав: «А это кто? А это? А зачем он ест плесень? Почему этот орел в Сомбреро? И кто такой Марат, черт побери?»
Это звучит (и выглядит) нелепо: на всех литературных курсах будущих прозаиков учат тому, как важно правильно начать, как важно завладеть вниманием читателя. Уоллес же (который сам всю жизнь преподавал литературное мастерство) поступает с точностью до наоборот. Он пишет текст, в котором первые двести-триста страниц героев нужно помечать закладками, чтобы не потерять их в темноте воображения.
Вся первая часть романа — своего рода фильтр. Растягивая вступление, делая его невыносимым, автор словно пытается отсеять лишних. И в то же время такой подход придает названию (и всему тексту в целом) дополнительное ироническое (или, скорее, пост-ироническое, учитывая изначальное название, источник цитаты и направление мысли автора) измерение: ведь «Infinite jest» — это книга о том, какой разрушительной силой обладает наша тяга к удовольствию.
Сюжет или типа того
«Бесконечная шутка» — очень густонаселенный роман; и все же в этой сложносочиненной конструкции видна четкая система, два главных ядра, две локации — Энфилдская Теннисная Академия и реабилитационная клиника «Эннет Хаус». Действие по большей части замкнуто на двух героях: один — Гарольд «Гал» Инканденца, юноша с выдающимися лингвистическими способностями и, кроме того, подающий надежды теннисист; и Дональд «Дон» Гейтли, сидящий на димедроле грабитель, угодивший в клинику реабилитации.
Архитектурно текст довольно симметричен: первый герой, Гал, медленно скатывается в наркозависимость и — дальше — в безумие; второй же, Дон, наоборот, отчаянно борется со своими демонами, ходит на встречи Анонимных Алкоголиков, пытается очистить кровь и разум от стимулирующих препаратов. На протяжении всего романа два героя как бы уравновешивают замысел автора: один постепенно теряет ясность, второй — ищет способ ее обрести.
На этот внутренний смысловой/сюжетный каркас Уоллес навинчивает и многие другие свои дополнительные научно-фантастические и анти-утопические замыслы. Он переносит действие в недалекое будущее (для нас с вами — уже в прошлое (примерно 2008-2011 годы)). Общество потребления в этом «будущем» продало все — абсолютно все — даже календарь; годы теперь субсидируются корпорациями; т.е. вместо номера каждый год носит название фирмы, оплатившей «рекламное место»: и мы имеем «Год мусорных пакетов «Глэд», «Год одноразового нижнего белья для взрослых» и т.д..
Безумие творится не только в календаре: политики тоже окончательно поехали умом. В этой версии будущего США, Канада и Мексика объединились в единое государство OСАН (Организация Северо-Американских Наций), и на гербе там теперь — орел, в сомбреро, в одной лапе он сжимает кленовый лист, а в другой — чистящие средства (символизируя тем самым крайнюю степень ипохондрии президента). Канада превратилась в свалку ядерных отходов и в рассадник сепаратистов.
И вот — все эти странные, причудливые и никак не связанные между собой сюжетные ходы Уоллес все же скручивает вместе с помощью сквозного элемента/макгаффина: речь идет о смертоносном фильме — визуальном эквиваленте атомной бомбы. Фильм называется «Бесконечна шутка», и зрители при его просмотре в буквальном смысле умирают от веселья/хохота. Попытки отыскать или хотя бы отследить перемещения последнего сохранившегося картриджа с фильмом в итоге задевают почти всех героев и добавляют в и без того запутанный сюжет еще больше шуму, истерии и по-настоящему безумного веселья.
——
Варианты гербов ОСАН (В оригинале ONAN (Organization of North American Nations)), нарисованные фанатами книги
——
Уоллес, чудо памяти
В одной из своих книг (в «Коротких интервью…») ДФУ заигрывал с метафорой пчелы: «Чтобы замереть, пчела должна двигаться очень быстро». Сама эта идея завораживала его: чтобы остановиться, просто зависнуть в воздухе, над цветком, пчеле нужно затратить в разы больше энергии, чем при полете.
Эта метафора отлично подходит для описания стиля письма самого Уоллеса. Один из критиков очень метко назвал его «noticing machine». Вся его проза — череда бесконечных, многостраничных, невротических перечислений/описаний. В обычной жизни, когда мы смотрим на предмет/на человека, мы фиксируем только то, что важно (по нашему мнению): парикмахер смотрит на прическу, стоматолог — на состояние зубов, портной — на одежду.
В случае с Уоллесом все иначе.
У Борхеса есть рассказ «Фунес, чудо памяти». Вот как рассказчик описывает главного героя:
«Мы с одного взгляда видим три рюмки на столе, Фунес видел все лозы, листья и ягоды на виноградном кусте. Он знал формы южных облаков на рассвете тридцатого апреля тысяча восемьсот восемьдесят второго года и мог мысленно сравнить их с прожилками на книжных листах из испанской бумажной массы, на которые взглянул один раз, и с узором пены под веслом на Рио-Негро в канун сражения под Кебрачо».
Точно такое же впечатление производит проза Уоллеса. Он, как тот самый Фунес, фиксирует все сразу: движение, мурашки на коже, вздох, шрам на ключице, трещину на асфальте, ворсинки на ковре, поры на носу, капли конденсата на стакане с водой в жаркий день, пигментные пятна на внешней стороне ладони, засохший секрет коньюктивы в уголке глаза, — воображение Уоллеса всегда стоит в режиме «макросьемки» (или «фотоувеличения»), в его книгах есть описание варикозных вен на ногах незнакомки длиною в три абзаца и описание зевка — длиною в два. Ему никогда не бывает достаточно одной метафоры — он слишком жаден, он выжимает из каждого предмета весь образный потенциал. И потому многие сцены в «Бесконечной шутке» кажутся многословными и избыточными, и у читателя может возникнуть ощущение, что книга никуда не движется, что время как будто замедлилось/застыло, и автор уже на протяжении трех страниц разглядывает одну и ту же мысль, как муху в янтаре, подсвечивая ее с разных ракурсов, — литературный Плюшкин, коллекционер мелочей, ДФУ тащит в свою книгу все, что попадется под руку, — он поглощен этим навязчивым желанием все вокруг понять и систематизировать, и он пожертвовал динамикой текста в угоду своей любви к детализации/фиксации мира; на самом деле, если вы прислушаетесь к прозе Уоллеса, то почувствуете — каждый образ здесь прописан так тщательно, что буквально жужжит от скрытой в нем энергии. Как пчела, которая машет крыльями так быстро, что их не видно.
Но если их не видно — это не значит, что их нет.
Пост-ирония судьбы
И все же дело здесь вовсе не в насыщенности прозы. В истории литературы «Бесконечная шутка» останется по другой причине. Ведь своим романом ДФУ открыл новое направление в американской литературе. Его magnum opus — это вызов. Вызов всей постмодернистской литературе, с ее сарказмом и цинизмом. С ее отказом от поиска смысла. Дэвид Фостер Уоллес — первый американский писатель, объявивший войну иронии («Ирония — это птица, полюбившая свою клетку »), и «Шутка…» — его манифест, попытка найти новый ориентир; и в то же время — упрек писателям старшего поколения. Еще в 1995 году в своем эссе, посвященном биографии Достоевского, ДФУ писал:
«[эта книга]… побуждает нас спросить самих себя, почему мы требуем от нашего искусства иронической дистанции от глубоких убеждений или предельных вопросов, так что современные писатели должны либо шутить над ними, либо прикрываться формальными трюками, вроде интертекстуальных цитат или неуместных сопоставлений, помечая реально важные вещи звездочками и уводя их в сноски, как какие-нибудь мультивалентные остраняющие завитушки и тому подобную херню».
Именно эта идея — призыв к искренности (то, что потом назовут постиронией или «новой искренностью») — стала скрепляющим раствором «Бесконечной шутки», именно она сделала ее одним из самых важных романов своего времени, а ее автора — национальным достоянием. Ирония, по Уоллесу, как анестезия [***], в малых количествах она действительно помогает притупить боль реальности и сохранить душевное/эстетическое равновесие, но стоит чуть превысить дозу — и получается постмодернизм, а дальше — чистое шутовство.
В 50-х, после того, как культура пережила перезагрузку, постмодерн с его «иронической дистанцией» и «культом неопределенности» казался единственно возможным инструментом познания мира. Сегодня уже очевидно, что вся эта эклектика, пародии, нарративные игры, деконструктивизм и вечное заигрывание с поп-культурой — все это больше не работает. И не случайно название книги — Infinite jest — это цитата из «Гамлета» и, что еще важнее, слова эти Гамлет произносит, глядя на череп Йорика, придворного шута. И точно так же Уоллес написал свой тысячестраничный опус, глядя на голый череп постмодернизма.
Современная литература, во главе которой стоят все эти «бесконечно остроумные, чудеснейшие выдумщики», избравшие «ироническую дистанцию» и считающие наивность ущербным чувством, — эта литература нежизнеспособна, она парализована иронией и слишком увлечена «интертекстуальными… мультивалентными остраняющими завитушками». И единственный способ победить ее, единственный способ выиграть эту войну с энтропией «бесконечного остроумия» — это быть честным и открытым, не прятаться за ухмылкой интеллектуала и не бояться собственной наивности, перестать принимать наркотик иронии всякий раз, когда тебе страшно смотреть на мир — начать воспринимать жизнь всерьез, без шутовства. Это сложно. Но никто и не говорил, что будет легко. Ведь то, что не требует усилий — не заслуживает усилий.
Не случайно одна из самых важных фраз в романе звучит именно так — предельно серьезно и очень наивно:
«Развлекайся сколько хочешь. Но выбирай с умом. Ты — то, что ты любишь. Разве нет? Ты, целиком и полностью, — то, за что ты готов умереть, не раздумывая. Вот ты, <…>, за что ты готов умереть без раздумий?»
Русский перевод первых 100 страниц можно скачать здесь
Читайте также:
Дэвид Фостер Уоллес, «Короткие интервью с мерзкими мужчинами»
Лорри Мур, «Птицы Америки»
—-
[***] Французский философ Анри Бергсон писал, что «смех — это временная анестезия сердца». Уоллес смотрел на юмор немного иначе. В одном из своих интервью он говорил, что существует два вида юмора: тот, что облегчает боль, и тот, что причиняет ее. И юмор ДФУ как раз второго вида — жестокий и абсурдный, во многом кафкианский («Я думаю, мы должны читать лишь те книги, что кусают и жалят нас»). Смех для него — это вовсе не способ защититься от реальности, как раз наоборот — способ принять ее и описать более детально (яркий пример: исповеди наркоманов в «Бесконечной шутке» или же история об украденном сердце (там же)).
—-
[9*] «Американское искусство, — пишет Уоллес, — это путеводитель, помогающий встроиться. Инструкция. Нам показывают, как носить маски тоскующей и пресытившейся иронии — нам прививают эти маски с молодости, когда наши лица еще достаточно податливы, чтобы принять форму того, что на них надевают. И после — эти маски пристают к нам, скучающий цинизм спасает нас от слащавой сентиментальности и простодушной наивности. Проявление чувств равно наивности на этом континенте <…> Гал [Гарольд — один из главных героев] — пустой внутри, но не глупый, в одиночестве размышляет над этим: если что-то и дает модному ныне цинизму превосходство над сентиментальностью — то это наша боязнь быть настоящими людьми, потому что быть настоящим человеком (по крайней мере, в его представлении) это значит быть неизбежно чувствительным, наивным, склонным к слащавости и, в большинстве случаев, жалким».
Он развивает тему дальше:
«Это довольно интересно, искусство США конца тысячелетия трактует агедонию и внутреннюю пустоту как нечто модное и клевое <…> Возможно, это происходит потому, что наше искусство создано уставшими от мира и чрезмерно изощренными представителями старшего поколения — и теперь его потребляют молодые; не только потребляют, но изучают его, чтобы найти ответ на вопрос, как быть клевым и модным; и нельзя забывать, что для детей и молодых людей быть клеевым и модным — значит быть почитаемым, принятым, вовлеченным в общественную жизнь и, стало быть, Неодиноким». (перевод фрагментов мой)
Записки из культурного подполья. Беседа с Вячеславом Корневым – Андрей Курпатов – Блог – Сноб
Я вернулся в Петербург, чтобы осесть в родном городе и создать в нем особое место — интеллектуальное пространство (кластер) «Игры разума». Это мой, если хотите, диогеновский фонарь. Сама идея такого кластера кажется по нашим временам, конечно, абсолютно утопической, если не сказать глупой, но мне интересны интересные люди, и ничего с этим не поделать.
Одним из первых резидентов нашего кластера стал доктор философских наук, профессор Вячеслав Вячеславович Корнев, который тоже только перебрался в «культурную столицу», оставив кафедру Алтайского государственного университета. Философа Вячеслава Корнева я знал по очень хорошей книге «Философия повседневных вещей», но даже она не проливала свет на масштаб личности ее автора.
Много раз я слышал о разных «культуртрегерах», но на поверку все они, честно сказать, оказывались то городскими сумасшедшими, то весьма поверхностными типами с нереализованными амбициями, то, мягко говоря, незадачливыми предпринимателями. Возможно, мне просто не везло. В любом случае, найти практикующего философа, который избрал современное искусство в качестве своего интеллектуального оружия, невероятная удача.
Когда Вячеслав Корнев начинал свое культуртрегерство, еще и такого-то слова, я полагаю, не существовало. Все его проекты объединены куда более понятным нашему уху словом «Ликбез». Так, с 1989 года издается литературно-философский альманах «Ликбез» — тогда это, конечно, была андеграундная издевка над «совком» (кто знал, что все так обернется: и дух СССР воспрянет, и ликвидация безграмотности потребуется).
Затем появились проекты «Философский ликбез», «КЛИК» (Клуб любителей интеллектуального кино), Международный фестиваль авторского кино «КИНОЛИКБЕЗ». Но и это только вершина айсберга, а там еще и философские видеорепортажи с альтернативных выставок современного искусства, и кинолаборатория, и т. д., и т. п. Такие профессора работают теперь в СПб ГУТ им. М. А. Бонч-Бруевича.
Впрочем, просто перечислять проекты, наверное, бессмысленно. Вячеслав Корнев — философ действия, и видеть это действие надо вживую, например, у нас в «Играх разума», где теперь проходит и +КЛИК», и «Философский ликбез». Мне же хочется представить Вячеслава Корнева уважаемой аудитории «Сноба» как философа, с которым я не согласен…
Андрей Курпатов:
Естественно пытаться искать «смысл в бессмысленное время». А чувство бессмысленности существования, и в самом деле, кажется всеобъемлющим. Само наше общество становится все более суицидальным. Во всем мире для психиатров и особенно психофармакологов сущее раздолье, да и психотерапевтам есть чем заняться. Так что мне вроде как грех жаловаться. Но вот я жалуюсь, потому что суть проблемы, мне кажется, от всех нас ускользает.
Уже не раз мне приходилось поднимать на «Снобе» тему «смысла», что неизменно приводило к жарким дискуссиям. Драматургия этого спора, по существу, сводилась к следующему. Я полагаю, что если у чего-либо действительно имеется некий «смысл» (то есть некая штука не бессмысленна), то соответствующий «смысл» может быть высказан, сформулирован, объяснен, причем разными способами.
Из чего, на мой взгляд, следует, что если вы не можете сформулировать «смысл» чего бы то ни было — например, «жизни», — то вам только кажется, что вы его знаете. Слышу звон, а не знаю, где он. И непонятно, звон ли это вообще. Возможно, если задуматься, если потрудиться, то смысл действительно обнаружится. Но труд мысли совершается нами редко, причем чем дальше, тем реже. Так что все и правда превращается в сущую бессмыслицу.
Но что нам в связи с этим предлагает современная культура? Боюсь, что ее стратегии выхода из этого кризиса «бессмысленности» хромают на обе ноги. Она становится все более визуальной: YouTube, Instagram, торренты… Так что концепты, понятия, логика, теории — это все дело прошлого. Языку мысли, при всем желании, не угнаться за языком движущихся картинок — языку внутренне неорганизованному, нечеткому, радикально субъективному. Возможно ли вообще мышление в этой визуально-информационной среде? Мышление ли это?
Вы — философ, проблематизирующий и популяризирующий «смыслы», сообщаемые современным художественным языком. Но какой «смысл» можно выразить такими средствами? Не обманываем ли мы сами себя, полагая, что кино, живопись или акционизм могут сказать нам нечто, что имеет действительный «смысл»? Возможно, что мы просто привносим в эти произведения свои «смыслы»? Но если мы скоро окончательно разучимся их производить, то и вносить-то уже будет нечего.
В общем, все это меня как-то настораживает.
Вячеслав Корнев:
В популярной энциклопедии современной жизни — на сайте «Луркоморье» — есть статья о синдроме поиска глубинного смысла. Наверное, вся наша дальнейшая беседа может быть квалифицирована как общение двух упертых и неизлечимых больных синдромом ПГС.
Сегодня, когда сама процедура поиска значения или объяснения превращается в «загугливание», ручная работа с понятиями кажется вызывающе архаичной. Фиксированный и кодифицированный «смысл» устанавливается в мгновение ока, компьютер в телефоне позволяет носить расширенный и расшаренный внешний мозг в собственном кармане. Словом, как резюмирует реклама смартфонов Samsung, «умные все стали!»…
Но, как говорят на семинарах в Высшей школе методологии, что же происходит на самом деле? В недавно переведенной на русский язык книге Манфреда Шпитцера «Антимозг: цифровые технологии и мозг» приводится масса интересных фактов о феномене цифрового слабоумия. Репрезентативные и масштабные социологические исследования в европейских странах показали серьезные отставания в умственном развитии у поколений детей, воспитанных с помощью гаджетов и сотовой связи. Этот вывод основан на анализе объективных показателей. Манфред Шпитцер категорично заявляет, что не тренируемый с помощью собственных внутренних ресурсов мозг хиреет и теряет в объеме нейрональных аппаратных клеток серого вещества.
Так что проблема не в том, как пробиться к какому-то подлинному смыслу в эпоху перепроизводства семиотического мусора и информационного шума. Ведь, в конечном счете, мы все находимся внутри мыльных пузырей своих иллюзорных представлений о «реальности» (и в том числе фантомов знания об устройстве социальной реальности). Если любой предметный разговор начинать с обнаружения фактов, то замедление развития головного мозга в масштабах одного-двух последних поколений можно считать документально подтверждаемым фактом. Не ведет ли это нас в перспективе к коллективному Альцгеймеру?
Отсюда и другая оценка характера немодной сегодня погони за смыслами, будь то смешные для «Луркоморья» раскопки значений в голливудском блокбастере или старая добрая охота на экзотических философских «бабочек» (загадочные «субстанции», «ризомы», «симулякры» и прочие метанарративы). Ситуация здесь как в одном из произведений Джерома К. Джерома: «А это и были комические куплеты».
Иначе говоря, именно ручная самостоятельная работа со смыслами лучше всего тренирует мускулатуру нашего мозга, стимулирует жажду познания и какого-то жизненного обновления. Во всяком случае, лично меня всегда вдохновляют чьи-то удачные поимки нетривиальных смыслов — эдакие красивые схватывания сути, эффектные новые называния каких-то важных вещей, парадоксальные переворачивания проблемы и т. п.
Андрей Курпатов:
Думаю, что если я когда-то и страдал «синдромом поиска глубинного смысла» (© «Луркоморье»), то уже благополучно от этого недуга излечился. «Глубинные смыслы» нельзя толком ни изъяснить, ни верифицировать, а потому непонятно, как о них вообще можно вести речь. Неслучайно субъект, «обнаруживший» такой «смысл», тут же глубокомысленно закатывает глаза и начинает ссылаться на трансцендентное, которое он в глаза не видел. И увидеть не мог, причем по определению. А само это определение «трансцендентного» ему, наверное, следовало бы знать, если уж он на него ссылается. То есть понимать его смысл. Но он не знает, а как вы правильно заметили, просто загуглил «умное слово» в «Википедии».
Так что, если я о чем-то и переживаю, так не о потерянных «глубинных смыслах», а о том, что самые элементарные, так сказать, смыслы утрачиваются. Точнее даже не элементарные, а хоть сколько бы то ни было внятные. Постмодерн предложил нам радикальный релятивизм — мол, всякая интерпретация не лучше любой другой, и нет ничего определенного, однозначного. Таким образом, всякий имеет право на свое «скромное мнение» — IMHO, — какую бы чушь он ни нес. И ведь ничего ему на это не скажешь: все имеют право на свое мнение — «права человека» и все такое. В результате теперь как бы и нет глупости, а есть просто «разные мнения», и будьте любезны их уважать. Но чего ради и с какого перепугу?
В этом, собственно, и вопрос: не льет ли современное искусство, которое как раз и предполагает эту бесчисленность IMHO, воду на мельницу того самого «цифрового слабоумия»? Тренировка фантазии и воображения (даже если допустить, что она современным искусством производится) — это все-таки не то же самое, что тренировка мышления.
Я еще могу как-то, наверное, понять структуралистский анализ художественных артефактов — начиная с М. М. Бахтина с его «Формами времени и хронотопа в романе» и заканчивая «Метаисторией» Х. Уайта. Но где это теперь? А просто «красивые схватывания сути»… Можно ли вообще это как-то сопрячь со строгостью мышления, с доказательностью? Или этого и не нужно? Мол, пусть «цветут все цветы», а мы будем любоваться?
Вячеслав Корнев:
Андрей, ловлю вас на фразах: «постмодерн предложил», «современное искусство льет воду». Мне кажется, что этими выражениями как раз и управляет идея глубинного смысла — того фундаментального начала, что присуще якобы целой эпохе или культуре.
Это напоминает парадокс Шпенглера. Известно, что немецкий историк отверг единую логику развития человечества и предпочел ей модель локальных цивилизаций. Эти цивилизации в изображении Шпенглера фактически непознаваемы. Но юмор в том, что понимание души каждой культуры почему-то доступно исключительно Освальду Шпенглеру — наверное, с точки зрения господа бога.
Отсюда я с недоверием отношусь к идеям насчет «духа постмодерна», как и любого друга «объективного духа». Почему я сразу перевел разговор на эту тему личного удовольствия от философии, какого-то бартовского «удовольствия от чтения»? Потому что в серьезной беседе я намеренно одергиваю себя от суждений на тему универсальных принципов культуры или эпохи.
Андрей Курпатов:
Вячеслав, не будем делать вид, что мы с вами первый раз встретились. Вы и вправду думаете, что я предполагаю наличие некого «глубинного смысла» в культуре? Наверное, это все-таки не мой случай. У меня и к самой-то культуре масса вопросов. Я даже не уверен, есть ли она вообще в том виде, в котором мы ее себе вроде как представляем.
С другой стороны, странно, наверное, было бы отрицать тот факт, что «времена» бывают разные. Причем разные не из-за какого-то «модерна» или другого «духа» самого по себе, а просто потому, что в этих «временах» люди реализуют разные практики социальных отношений, коммуникации и т. д.
И именно поэтому я прекрасно понимаю, что в рамках современного искусства для «схватывания сути» субъекту необходим серьезный культурный бэкграунд — то, что он уже освоил в пространстве культуры, то, что он уже знает, понимает и способен выразить.
Не будем лукавить: когда вы проводите свои мероприятия, будь это «Клуб любителей интеллектуального кино» или «Философский ликбез», вы сами всегда предлагаете сложную философскую интерпретацию. То есть само это «схватывание сути», это «интеллектуальное удовольствие» — уже есть продукт серьезной интеллектуальной работы.
Но если мы полностью переходим на визуальный язык, апеллируем к голой субъективности, к «ощущаемым», но трудно формулируемым «смыслам», нет ли тут риска? Не выплеснем ли мы с водой и само мышление? Или зря я переживаю и мышление для этого «схватывания сути» совершенно не требуется?
Когда заканчивается очередной киносеанс «КЛИКа», вы всегда спрашиваете: «О чем это кино?» Вы ждете, что участники встречи сообщат вам смысл увиденного. Но, в свете всего того, о чем мы с вами уже сказали, не потеряют ли они в какой-то момент способность этот смысл выявлять?
Вячеслав Корнев:
Прекрасно! Теперь после того, как мы на манер Чичикова и Манилова, долго пропускали друг друга в дверь, за которой скрываются смыслы, можно сделать шаг вперед.
Да, я тоже верю в «дух эпохи», и мне очень интересно разбираться в содержании того кино, которое крутит нам история. Кстати, кинематограф для меня — это «черный ящик», самописец современной культуры. Кинематограф, как ровесник общества потребления, почти в автоматическом режиме фиксирует важнейшие социальные явления, темы и проблемы. Ту же всем известную «Матрицу» Борис Гройс назвал знамением конца философии. Или, точнее, это симптом перезагрузки философии — теперь она неотделима от визуального языка.
Сегодняшняя философия — это часто искусство «мыслить экраном». В вузовских аудиториях преподаватели овладели расширяющими возможностями мультимедиа, и редкая лекция проходит без презентации или других визуальных материалов. В «большой философии» такие значительные фигуры, как Славой Жижек, экспериментируют с новой интеллектуальной формой — своеобразной кинофилософией, как в «Киногиде извращенца».
Поэтому, возвращаясь к вопросу, возможно ли мышление в визуально-информационной среде, отвечу: да, возможно. Мы привыкли к мифу о том, что философия требует паузы, остановки, особой сосредоточенности — в позе роденовского «мыслителя». На деле же бывает и философия на бегу, на экстремальной скорости, в блиц-режиме. Например, на публичных диспутах, где нужно оперативно реагировать на разные интеллектуальные угрозы, мозг начинает работать на новых оборотах. Собственно так же точно есть классические шахматы, а есть шахматный блиц.
Да, цифровое слабоумие наступает, но любая пандемия укрепляет иммунитет тех, кто интеллектуально выживет. Наше завоевание в этой борьбе — большая скорость, цепкость, оперативность мышления. Сравните классического Шерлока (у Конан Дойля или даже в нашем телесериале Масленникова) с современным Шерлоком 2.0 (из популярного британского сериала с Камбербэтчем). Лично мне теперь классический Холмс кажется слишком медленным. Ему не хватает интеллектуального драйва, искрометности, парадоксальности.
Сегодняшний мыслящий человек — это не (только) классический расслабленный мечтатель или кабинетный мыслитель. Его чаще можно найти в интернете, чем в библиотеке. Он может быть блестящим сетевым полемистом и продвинутым киберюзером. И мне кажется, что он должен быть не только хорошо начитан, но и как следует насмотрен. Не овладев главными достижениями человечества в кинематографе, сегодня трудно понять, кто мы и куда идем.
Андрей Курпатов:
Готов согласиться с тем, что мышление в визуально-информационной среде возможно. Очевидно, например, что сериалы выполняют в нашей культуре ту важнейшую роль литературного романа, которую он играл, например, в XIX веке. Но одно дело — мыслить в этой среде, а другое дело — формироваться в ней как мыслящее существо. Соответственно, мой вопрос теперь звучит так: возможно ли научиться мыслить, используя визуальный язык в качестве средства обучения?
Вы сами приводите исследования Шпитцера по «цифровому слабоумию», а я могу добавить сюда еще и «информационную псевдодебильность». То есть современный информационный массмаркет — предельно визуализированный — никак не способствует мышлению. Да и «Киногид извращенца» Жижека — это весьма интеллектуализированный продукт, рожденный текстами, которые Славой читал и писал. Теперь он лишь применяет то, что он понимает благодаря этой — предварительной — интеллектуальной работе, к тому, что он видит на киноэкране. Но не наоборот.
Или нет разницы между «подготовленным зрителем» и «неподготовленным»? А если есть и первый предпочтителен, то, вероятно, нам надо думать над тем, как такого зрителя «готовить». Но как культуре изготавливать «подготовленного зрителя», если все, что она нам теперь предлагает, — это невнятный язык визуальных образов?
В конце концов, это ведь бизнес, а визуальность — чрезвычайно увлекательный и легкий в потреблении продукт, и она неизбежно вытесняет все прочие — сложные и затратные в потреблении. Зачем мне заставлять себя читать книжку и думать о сложном, развивая тем самым свое мышление, если можно просто упереться в экран и насладиться мириадами ярких картинок? Разовьет ли это мое мышление без предварительной интеллектуальной подготовки, без исходного «приготовления себя», без практики «заботы о себе», как сказал бы Мишель Фуко? Вот в этом я сомневаюсь.
Вячеслав Корнев:
Мы находимся внутри глобального эксперимента, последствия которого будут видны через несколько десятков или даже сотен лет. Сегодня человек читающий, человек традиционной письменной культуры становится почти реликтом.
Как вузовский преподаватель, я каждый день сталкиваюсь с представителями нового поколения, и возникает большой соблазн назвать это поколение варварским. Сегодня в России серьезная научно-популярная литература издается тиражом в тысячу экземпляров. Так что всех, читающих Бодрийяра или Фуко, можно собрать в актовом зале университета. Нарративная культура физически вымирает, визуальная среда подчинила себе последние бастионы традиционного знания — вот почему вузовская лекция без экранной презентации тоже становится редкостью.
Как человеку книжной традиции (в детстве я был классическим книгочеем — и если сбегал с уроков, то нередко именно в читальный зал), мне тоже хочется оценить происходящее в терминах «кризис», «деградация», «гибель»… Разумеется, мне тоже кажется, что никакая насмотренность не заменит начитанности. И, возвращая старый-добрый философский вопрос о «первичности», скажу, что нарративная культура должна быть приоритетной для образования любого субъекта. Да, Жижек в «Киногиде извращенца» идет от мышления текстом к экранному мышлению, а не наоборот.
И всё же наши с вами резоны, Андрей Владимирович, — это резоны представителей вымирающего книжного поколения, это записки из культурного подполья. Помните время знаменитого спора «физиков» и «лириков», и вообще этот вымерший вид советских интеллигентов с неизменным набором из роговых очков, вязанного пуловера, портрета Хемингуэя, томика Пастернака? Где теперь эти романтические «ботаники», работавшие младшими научными сотрудниками, певшие городские романсы под гитару, мечтавшие о книжной стенке с полным собранием «Библиотеки всемирной литературы»? Это поколение вымерло, как динозавры. Эти книги выброшены на свалку. Эти идеалы высмеяны и забыты.
Каким будет человек, сформированный в полностью визуальной и цифровой среде, в эпицентре информационного шума? Вряд ли мы с вами, изнутри нашей традиционной системы координат, это спрогнозируем. Мы можем лишь повторить опасения Мишеля Фуко о том, что человек мыслящий способен исчезнуть, как «лицо, начертанное на прибрежном песке»…
Однако вывод, который я делаю из таких пессимистических предположений, противоположен тональности тезиса: необходимо самыми радикальными и партизанскими методами внедрять традиционную культуру во все институции общества спектакля.
Если мы имеем дело с потребителем образов, пожирателем экранного зрелища, то дайте ему, как это делает Жан-Люк Годар, такие взрывные образы и такой закадровый текст, что привычные схемы понимания перегорят на первых же минутах просмотра. Именно это, кстати, регулярно происходит у нас на киноклубе во время показов фильма Годара — ярость непонимания и ощущение собственной глупости могут переродиться в жажду нового знания и интеллектуальную перезагрузку. Зрители уходят с таких сеансов совершенно не с тем, с чем они пришли, а это и является благоприятной почвой для начала самостоятельного мышления.
Стратегия методологического партизанства — это не безнадежная и ревнивая охрана жалких остатков письменной культуры. Это процедура нанесения встречных ударов, захват таких важных территорий общества тотальной симуляции, как кино, телевидение, интернет. Не случайно главный критик современного общества спектакля Ги Дебор сам снимал очень необычные фильмы: они представляли собой философский комментарий к визуальному шлаку, взлом и разрушение привычных экранных кодов с помощью «остраняющего» текста.
Поэтому, как мне кажется, мы не сможем вырастить «подготовленного зрителя» — этого нам не позволит сделать глобальная демократия информационного шума, всемирная система визуального капитализма. Но мы можем, как это говорит молодежь, «взорвать мозг» рядовому потребителю поточных мусорных образов. Его еще можно вырвать из Матрицы красной пилюлей истины — истины глубокого смысла, с привкусом незабываемого удовольствия от мышления, чтения, понимания.
Андрей Курпатов:
Рад в этом участвовать!
Как PoMo вы можете пойти? — ARTnews.com
В разделе «Новая волна» шоу «Постмодернизм» представлен дизайн одежды Чинции Руджери Hommage à Lévi-Strauss , 1983.СТЕФАН РАППО / © ШВЕЙЦАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Когда-то давно безнадежно обнадеживающий (но не утопический) новый вид инклюзивной и гибридной (но не универсальной) системы убеждений волшебным образом появился, призванный спасти архитектуру и искусство от доктринерских ограничений модернизма.Это называлось постмодернизмом и было всем, на что модернисты считали табу: он включал такие примеси, как театральность, иллюзионизм и орнаментальность. Бесплодные формы модернизма внезапно стали казаться догматичными, жестокими и исчерпанными. В отличие от этого, постмодернизм рассматривался некоторыми как начало важного исторического перехода от современной эпохи к. . . ну никто точно не знал что. Говоря словами того времени, это был серьезный сдвиг парадигмы.
Для многих постмодернизм начался с прозрения архитекторов Роберта Вентури и Дениз Скотт Браун: Лас-Вегас — это наш Версаль.Их книга Уроки Лас-Вегаса была опубликована в 1972 году, всего через несколько лет после того, как массовые студенческие протесты, контркультурные коммуны и отсев 1968 года стали сигналом противодействия модернистской системе убеждений. К концу 70-х годов появились теоретические тексты Чарльза Дженкса, а также радикально деконструированный ремонт Фрэнком Гери собственного дома в Санта-Монике. Постмодернистские площади и колоннады начали появляться вместе с отделкой из оксидированной меди. Но больше всего внимания привлек небоскреб в центре Нью-Йорка с фронтоном в стиле чиппендейл — здание AT&T, спроектированное бывшим модернистом из стеклянных коробок Филипом Джонсоном.
В искусстве, приспособившем постмодернизм к своим целям, все было не так просто. К 1969 году Earthworks, scatter-works, концептуальное искусство и Étant donnés Дюшана — его тревожно реальная пейзажная диорама с глазком, воплощавшая то, что его символические холостяки сделали с ранее развоплощенной невестой, — изменили природу передового искусства. Поразительное изображение уязвимой голубой Земли, сделанное с Луны, казалось, предсказывало новое искусство природных веществ, текущих процессов, иллюзорных изображений и систем реального времени.Собирая, перерабатывая, собирая и присваивая из реального мира, многие художники в то время, казалось, также отказывались от абстракции и геометрии.
Среди первых, кого считали постмодерном, были высоко политизированные концептуалисты и видеохудожники Сан-Диего 70-х: Марта Рослер, Элеонора Антин, Хелен и Ньютон Харрисон и Сюзанна Лейси среди них. В то время как Рослер объединял сцены войны во Вьетнаме с загородными гостиными в фотоколлажах или рассылал открытки с рецептами, нацеленные на классовое неравенство, Антин рассылал открытки по США.С. 100 бестелесных сапог идут на войну. И пока Харрисоны составляли карту загрязненных водных путей, Лейси указала места изнасилований в Лос-Анджелесе на феминистской карте, состоящей из пяти частей. К 1980 году постмодернизм, который начался как восстание против изношенных абстрактных стратегий Нового, превратился в противоречивую теорию, которая заставляла ученых бросать оскорбления друг другу по поводу того, закончится ли модернизм когда-нибудь или он уже капут.
Примерно в то же время живопись вернулась из оцепенения в головокружительном множестве маскировок: живопись New Image (например, Дженнифер Бартлетт и Роберт Лонго), Pattern and Decoration (Роберт Кушнер и Ким МакКоннел), итальянский трансавангард (Сандро Чиа , Энцо Кукки и Франческо Клементе), немецких художников (Георг Базелиц и Йорг Иммендорф) и неоэкспрессионистов, главный из которых Давид Салле.Джулиан Шнабель оседлал забор — его посуда и картины на японских декорациях явно были постмодернистскими, но его безудержная краска, возможно, была модернистским возвратом.
Не считая Синди Шерман, которая стала типичной девушкой с плаката Postmod, это был острый вопрос о том, кто был, а кто не был PoMo. Когда появилось искусство присвоения, и Ричард Принс (с его перефотографированным человеком Мальборо) и Шерри Левин (с ее фотографиями Уокера Эванса в стиле «играй снова») начали ссору по поводу того, кто первым отказался от модернистского изречения Make It New, PoMo пошел ретро (позже этот этап получил название «Поколение картинок»).К концу 80-х терминов стало множиться: постпостмодернизм, супермодернизм, гипермодернизм, неомодернизм, антимодернизм, альтермодернизм. Единственное, в чем все, казалось, были согласны, — это то, что главную роль играют ирония и стилизация.
В 1990-е годы постмодернизм был поглощен всем, что он породил: мультикультурным искусством, феминистскими проектами, политизированными фотоработами и инсталляциями о гендере, расе, этнической принадлежности и другом.
Теперь, примерно 20 лет спустя, призрак постмодернизма вернулся.То, что когда-то было радикальной концепцией в западной культуре, которая доминировала в авангардном дискурсе почти два десятилетия — и сигнализировало о переходе от анализа к синтезу, от сеток к картам, от шока нового к восстановлению старого, — вновь всплыло на поверхность как не более чем декоративный стиль, который, по сути, является обновлением ар-деко.
Это возрождение возродилось прошлой осенью. Его возглавил Музей Виктории и Альберта в Лондоне, который организовал крупную дизайнерскую выставку «Постмодернизм: стиль и подрывная деятельность 1970–1990.Выставка, которая будет проходить в Швейцарском национальном музее в Цюрихе до 28 октября, рассматривает постмодернизм не как неизбежное революционное движение, меняющее парадигму, а как просто еще одну стилевую тенденцию, такую как панк или гот. В нем есть мемфисская мебель, одежда Вивьен Вествуд, чайник Alessi и кубистическое платье для беременных Грейс Джонс.
Между тем, в США произошли столкновения между фракциями PoMo и Promo по поводу того, действительно ли постмодернизм является стилем. В отличие от того, когда он впервые появился, этот возрожденный постмодернизм был в основном о декоре и споре.Вначале он, казалось, прорезал историю, провозглашая окончательность современной традиции, а также свой собственный моральный поиск содержания, контекста и содержания в доцифровом мире того времени. Сегодня, в нашем полностью фрагментированном, коммодифицированном и фетишизируемом начале 21 века, обновление становится фарсом, имеющим все отношение к стильности и инклюзивности и не имеющим ничего общего с содержанием. «Постмодернизм — это своего рода система раннего предупреждения о жизни, которую мы ведем сейчас», — сказал Гленн Адамсон, сокуратор Джейн Павитт на дизайнерском шоу Виктории и Альберта, в котором участвовали не только Kraftwerk, но и исполнители хип-хопа, и даже герой диссидентского искусства. 2011, Ай Вэйвэй.«Сингапур, Пекин и Дубай, возможно, сейчас более постмодернистские, чем когда-либо были Милан и Лондон». Но вот что происходит: радикальная челка становится доминирующей. Глубокая концепция сводится к мелким поверхностям. Так и закончился постмодернизм.
За последние пару лет в Европе скрывалось новое пост-постмодернистское движение: метамодернизм. Он включает повестку дня, которая включает искусство, которое непостоянно, инкрементально, условно и идиосинкразично, а также специфично для сайта и перформативно, эмоционально и перцептивно, коварно и сомневается.
Разработанный теоретиками культуры Тимофеем Вермёленом и Робином ван ден Аккером, которые опубликовали Заметок о метамодернизме в виде интернет-журнала, «Метамодернизм» аккуратно преодолевает встроенную путаницу и противоречия между модернизмом и постмодернизмом. Вермёлен и ван ден Аккер предполагают, что «постмодернистская культура релятивизма, иронии и стилизации» закончилась, и ее заменило постидеологическое состояние, которое подчеркивает вовлеченность, аффект и повествование. Они отмечают, что «мета» подразумевает колебание между модернизмом и постмодернизмом и, следовательно, должна включать в себя сомнения, а также надежду и меланхолию, искренность и иронию, аффект и апатию, личное и политическое, а также технологии и techne (что переводится как «Знание»).
Смысл и чушь тоже играют роль. И причудливость тоже. Сегодня на переднем плане такие так называемые метамодернисты, такие как Рагнар Кьяртанссон, Пилви Такала и Сиприен Гайярд, все из которых работают в Берлине и чьи работы характеризуются плавной эстетикой, связанной с ностальгией, выдумкой и старомодной живописью. как будто это спектакль. Кьяртанссон, который также выступает в музыкальном плане, рисовал по одному портрету в день друга в купальнике Speedo для Венецианской биеннале 2011 года. Видеоинтервенция Такалы в офисную работу, показанная на выставке «Ungovernables» в Новом музее, следовала за художницей, которая притворялась, что ничего не делает целыми днями, — поразительно искреннее представление, которое ставит под сомнение концепцию труда.А Гайяр, интересующийся концепцией провала, сочетает живописный романтизм и энтропийный лэнд-арт, зажигая в ландшафте огнетушители, снимая обломки разрушенных современных зданий и заказывая пейзажные картины. В работах этих художников реальность, вымысел, старомодное представление и недавние стратегии взаимоотношений сливаются с неудачей, нестабильностью и всеми надвигающимися «как будто» настоящего момента.
Ким Левин — независимый искусствовед и куратор.
Project MUSE — Политическая теория и постмодернизм (рецензия)
386 Философия и литература убедительны. Его «постдиалектический» метод, который ценит «сознание столько же, сколько оно сохраняет или восстанавливает, так и то, что оно производит» (стр. 377), дает ему гибкость и тонкость, которые смягчают остроту его по существу телеологической историографии, поскольку он позволяет ему для объяснения синоптического присвоения писателями прошлого, а также их синтетических жестов в сторону будущего.И все же, наконец, нужно решить, действительно ли конец XVIII века боролся с проблемами, которые в конечном итоге разрешил романуцизм, или же в конце века должен быть установлен более решительный разрыв, который разделяет премантиков и романтиков по линии несоизмеримого разлома. вопросы и несовместимые проекты. Преромантизм — это нелегкое чтение после ужина. Плотное, образованное и скупое цитирование первичных текстов предполагает значительное знакомство с произведениями того периода и широким кругом вопросов современной теории литературы.Тем не менее, если его требования высоки, вознаграждение будет значительным. Это крупное достижение, искусно написанный и тщательно сформулированный вклад в теорию истории литературы и мощное толкование литературы восемнадцатого века, с которым придется бороться всем ученым в этой области. Стивен К. Уайт, Университет Джорджии, Политическая теория и постмодернизм Рональда Бога; xiv и 153 стр. Нью-Йорк: Cambridge University Press, 1991, ткань 39,50 долл., бумага 12,95 долл. США. Предположим, мы должны были скрестить Юргена Хабермаса с Мартином Хайдеггером.Какого рода потомство может произвести этот союз германцев? Интригующее исследование Стивена Уайта теоретических ресурсов, необходимых для постмодернистской политики, предлагает один из возможных ответов на это невероятное предположение. Что значит называть себя постмодерном? По мнению Уайта, это значит принять скептицизм Лиотара по отношению к метанарративам; поддержать мнение Фуко о нормализации; одобрить деконструкцию общественного пространства Бодрийяром на так много циркулирующих электронных изображений; и отказаться от надежды на то, что некоторая тоталистическая революционная программа скоро избавит нас от нашего тяжелого положения.Назвать себя постмодерном — значит спросить, «что может означать обучение быть дома в бездомности» (стр. 7). Что значит действовать «ответственно» в этом по сути проблемном мире? Если постмодернисты защищают свое поведение, ссылаясь на его инструментальную эффективность или универсальную рациональность, они предадут свою волю к господству. Желая избежать такой безответственности по отношению к инаковости, постмодернисты могут делать то, что делал Хайдеггер из Reviews387, когда он не приближался к сильным мира сего.Они могут придерживаться политики воздержания, целью которой является выявление того, чем неизменно приносится в жертву всякий раз, когда подчиненное поведение подчиняется требованиям телеократического разума. Но такая политика, которую Уайт называет «жестом вечного сдерживания» (стр. 18), неудобно сочетается с навязчивым желанием постмодернистов утвердить цели освобождения. Чтобы сформулировать такие цели, мы должны вернуться к тем измерениям западной традиции, которые заслуживают реконструкции. То есть нам нужно обратиться к Хабермасу. Ибо характеристика коммуникативного действия Хабермасом не сводится в конечном итоге к модели монологического субъекта, стремящегося к контролю, и его характеристика идеальной речевой ситуации обеспечивает стандарт для оценки конкурирующих программ поведения.Тезис Уайта состоит в том, что большинство участников дискуссии о постмодернизме эссенциализируют либо хабермасианские, либо хайдеггеровские аргументы, и поэтому не могут отдать должное другому. Те, кто идет под венец с Хабермасом, приходят к выводу, что хайдеггерианцы виновны в аполитичном эстетизме. Те, кто идут к алтарю с Хайдеггером, утверждают, что хабермасианцы обладают авторитарными импульсами, которые, будучи задействованы в игре, означают смерть различия. Каждый из них является знакомым аналогом другого, и поэтому их брак остается несогласованным.«Я предлагаю, — пишет Уайт, — попытаться подумать о последствиях противостояния обоих измерений на чем-то более похожем на равные» (стр. 30). Если Хабермас показывает нам, как выполнить наше обязательство по оправданию поведения, Хайдеггер показывает, как понимание конечности закаляет полицейский менталитет, скрывающийся в идеальной речевой ситуации. Или, скорее, когда мы приходим к пониманию хайдеггеровского понятия Nähe, мы узнаем, как мы можем обуздать наши хабермасианские аргументативные импульсы, узнав, как позволить быть, действительно способствовать тому, что отличается.При таком понимании императив действовать ответственно становится неразрывно связанным с реакцией на намёки на особенность …
Когда наивный реализм сталкивается с постмодернизмом
Два десятилетия назад The Sciences, ныне несуществующий журнал , попросил меня прорецензировать Fire in the Mind научного журналиста Джорджа Джонсона (с которым я скучал последние десять лет. на Bloggingheads.tv). Fire встревожил меня, потому что он поставил под сомнение фундаментальную предпосылку The End of Science , которую я как раз заканчивал.«Обнаруженные наукой закономерности претендуют на универсальную истину, — спрашивает Джонсон в обложке книги , — , или гость из другой галактики сочтет их такими же причудливыми и культурно обусловленными, основанными на вере, как мировая религия?» В своем обзоре я очень старался опровергнуть точку зрения Джонсона на науку и защитить свой «наивный реализм» (как описывает его мой друг). Я перепечатываю свой обзор здесь, потому что Fire in the Mind только что переиздан с новым предисловием , и он остается самым красноречивым выражением постмодернизма, с которым я встречался (вот почему это одно из мои 25 любимых научных книг).Мы с Джорджем также говорим о его книге и моем обзоре о новом сегменте Bloggingheads.tv. — Джон Хорган
В Нью-Мексико обнаженные слои гор открывают исторические и даже геологические перспективы. Человеческая культура тоже стратифицирована. В деревнях по всему региону проживают коренные американцы, такие как тева, чьи мифы о сотворении мира по своей сложности соперничают с мифами современной космологии. Экзотические формы христианства процветают как среди индейцев, так и среди потомков испанцев, поселившихся здесь несколько веков назад.В городе Трухас секта под названием Hermanos Penitentes стремится искупить грехи человечества, инсценировав инсценировку распятия на кресте и практикуя бичевание.
На вершине этих древних систем верований лежит суровая, но ослепительная пластина науки. Чуть более полувека назад физики Лос-Аламосской национальной лаборатории продемонстрировали потрясающую силу своих эзотерических формул, взорвав первую атомную бомбу. В тридцати милях к югу в 1985 году был основан Институт Санта-Фе, который в настоящее время служит штаб-квартирой растущих исследований сложных систем.На обоих объектах одни из самых талантливых исследователей мира стремятся расширить или превзойти существующие объяснения структуры и истории космоса.
Сочетание природы, древней культуры и современной науки делает Нью-Мексико идеальным местом для размышлений о будущем науки. Стремительный темп исследований в Нью-Мексико и других местах в конце тысячелетия парадоксальным образом породил два противоположных взгляда на научное предприятие. С одной стороны, физики, такие как лауреат Нобелевской премии Стивен Вайнберг из Техасского университета, заявили, что исследователи приходят к «окончательной теории», которая будет включать в себя основные законы, управляющие физической сферой.С другой стороны, многие философы и другие люди задаются вопросом, сможет ли наука когда-либо прийти к истине. Эти скептики утверждают, что, учитывая скорость, с которой одна теория сменяет другую, как ученые могут быть уверены в правильности своих текущих теорий?
В этой борьбе между верой и неверием у ученых всегда был могущественный союзник: писатели-научные работники. Большинство журналистов, освещающих науку, полагают, что законы Вселенной «подобны золотым жилам, и что ученые добывают руду», как выразился Джордж Джонсон.Теперь Джонсон, репортер The New York Times , отклонился от толку с новой блестящей книгой, которая поднимает тревожные вопросы о притязаниях науки на истину.
Fire in the Mind — это в одном смысле обычная — хотя и исключительно хорошо выполненная — работа научной журналистики. Джонсон предоставляет самый последний обзор наиболее интересных и философски резонансных областей современных исследований. Одно это достижение сделало бы его книгу достойной прочтения.Его рассказы о физике элементарных частиц, космологии, хаосе, сложности, эволюционной биологии и связанных с ними разработках лиричны и ясны. Они заставили меня осознать, к некоторому моему ужасу, насколько плохо я понял интерпретацию квантовой механики Дэвида Бома как экспериментальную волну или связи между теорией информации и термодинамикой.
Что отличает Fire in the Mind от других научных книг, так это глубокое оспаривание таких теорий. Наука также может рассматриваться как «рукотворное сооружение, которое является историческим, а не вневременным, — предполагает Джонсон», — одним из многих альтернативных способов разделения мира.«Его отчеты о последних попытках объяснить происхождение жизни или всей вселенной чередуются с описаниями исконной территории Нью-Мексико и религиозных взглядов Пенитентес и Тева. Эти теологии, отмечает Джонсон, проистекают из одной и той же человеческой страсти. для порядка — и той же веры в существование такого порядка — что и квантовая механика или теория большого взрыва. Инопланетянам из развитой цивилизации или ученым-людям тысячу лет спустя оба набора верований могут не казаться почти одинаково примитивными , столь же далекая от The Truth (при условии, что классическая концепция остается жизнеспособной)?
То, что он заставляет нас серьезно относиться к таким возможностям, является свидетельством риторических навыков Джонсона и его глубоких познаний как в науке, так и в философии. Огонь в разуме — это подрывная работа, тем более что она очень тонкая. Стиль Джонсона менее полемичен, чем поэтичен: он продвигает свою позицию посредством аналогии, импликации, намеков. Возможно, именно поэтому предыдущие рецензенты Fire in the Mind , включая биолога-эволюциониста Стивена Джея Гулда, похоже, не осознали, насколько серьезным является нападение Джонсона на концепцию объективного знания.
Джонсон разрушает основы науки с помощью инструментов, взятых из самой науки.Физики продемонстрировали, что даже некоторые кажущиеся простыми системы хаотичны; то есть мелкие возмущения природы (взмах крыла пресловутой бабочки в Айове) могут вызвать каскад совершенно непредсказуемых последствий (сезон дождей в Индонезии). Эти аргументы также применимы к нашим собственным умственным способностям. Нейробиологи часто подчеркивают, что мозг, далеко не идеальная машина для решения проблем, был создан естественным отбором из того, что оказалось под рукой.
Джонсон предполагает, что наука тоже могла бы быть «сооружением башен, которые могли быть построены другим способом». Хотя он никогда не упоминает Структура научных революций , точка зрения Джонсона напоминает точку зрения, изложенную в 1962 году философом Томасом Куном. В коде этой книги Кун сравнил эволюцию науки с эволюцией жизни. Он отметил, что биологи опровергли телеологическое представление о том, что эволюция идет ко всему, включая умного двуногого животного без перьев, известного как Homo sapiens .Таким же образом, предположил Кун, ученые должны избегать иллюзий, что наука развивается в направлении идеального, истинного описания природы. Фактически, утверждал Кун, ни жизнь, ни наука не развиваются ни к чему, а только от чего-то; Таким образом, наука столь же случайна и зависит от обстоятельств, как и жизнь. Джонсон придерживается аналогичной точки зрения, но более красноречиво, чем Кун.
Fire in the Mind служит скорее провокацией, чем окончательным заявлением. Это заставляет читателей пересмотреть свои предположения о том, что является правдой, а что просто воображается.Во всяком случае, это бросило вызов этому читателю. Впервые я столкнулся с Fire in the Mind , когда писал свою собственную книгу, которая придерживается совершенно иной точки зрения, согласно которой научная истина практически под рукой. Читая Джонсона, я часто кивал в знак согласия, а затем понимал, что, поступая так, я нарушил одно из своих убеждений. И наоборот, я рефлекторно возражал против написанного им, а затем подвергал сомнению свою позицию. Другие читатели обязательно поймут тезис Джонсона по-своему.Но если они с самого начала не являются радикальными релятивистами, они вряд ли закончат книгу, не испытав кризиса веры.
Мое главное несогласие с Джонсоном состоит в том, что он слишком беспристрастно решает свои сомнения. Неизбежным результатом является то, что все теории, от наиболее эмпирически обоснованных до тех, которые не поддаются проверке даже в принципе, кажутся одинаково предварительными. Я также не могу согласиться с эволюционной, куновской моделью научного прогресса Джонсона. Тот факт, что объекты исследования, в том числе человеческий разум, из которого возникла наука, формируются случайными факторами, не означает, что наука в равной степени случайна.Естественный отбор склонил нас видеть мир в терминах существительных и глаголов, предметов и действий, материи и энергии. Вполне могут быть другие способы категоризации реальности, но это способ восприятия, который нам был предоставлен, и он оказался удивительно успешным.
Учитывая наши склонности к восприятию и мир, в котором мы живем, кажется неизбежным, что как только мы изобрели науку, мы наткнемся на определенные факты. Генетический код может быть продуктом случайных событий, но его открытие кажется неизбежным.Астрономы установили, что наше Солнце — лишь одна из многих звезд, а наш Млечный Путь — одна из миллиардов галактик. Это открытие, столь же неопровержимое, как и округлость земли, состоит в том, что вся материя состоит из веществ, называемых элементами, все элементы состоят из атомов, а атомы, в свою очередь, состоят из еще более мелких объектов: электронов, протонов и нейтронов. Несомненно, Джонсон принимает эти выводы как истину.
Или он? В начале своей книги Джонсон предлагает повторный курс современной физики, начиная с общей теории относительности и квантовой механики и заканчивая фантасмагорией теории суперструн.Полностью отдавая должное силе и красоте этих достижений, Джонсон также предполагает, что современная физика может быть в некотором смысле гениальной гипотезой — конечно, эффективной, но лишь одной из многих возможных альтернатив. Снова и снова, отмечает Джонсон, физики постулировали, а затем находили частицу, удовлетворяющую некоторым теоретическим требованиям. «Теория требует частицы, и есть гонка, чтобы ее найти. Детектор строится, а затем настраивается и перенастраивается, пока, о чудо, не будет наблюдаться предсказанный эффект — эффект, а не сама частица, которая может жить недолго. достаточно, чтобы оставить след.«
Возьмите нейтрино. Теоретики сначала постулировали его существование, чтобы гарантировать сохранение энергии при определенных формах ядерного распада, а двадцать пять лет спустя экспериментаторы нашли четкие доказательства этого. Отчасти из-за того, что его массу и другие свойства было так трудно определить, нейтрино теперь играет центральную роль в спекуляциях о строении и окончательной судьбе Вселенной. «После того, как нейтрино были приняты как реальные, их можно было использовать для объяснения других явлений», — пишет Джонсон.«И поэтому они становились все плотнее и плотнее в сети, в сетку теории, которая лежала между нами и ядерным миром».
Джонсон преуменьшает важность того, что некоторые предполагаемые частицы и процессы так и не были обнаружены. Теоретики жаждали магнитных монополей, например, и распада протона, но эксперименты не смогли предоставить доказательств ни того, ни другого. Более того, эксперименты также обнаружили бесчисленные явления, которые никто не ожидал, такие как рентгеновские лучи, радиоактивность и сверхпроводимость.
Джонсон пытается подорвать веру читателя в физику, анализируя текущие попытки разобраться в квантовой механике. Один из самых загадочных из известных квантовых парадоксов — проблема измерения. Квантовая теория предполагает, что частица, такая как электрон, следует множеством различных возможных путей, каждый из которых воплощен в так называемой волновой функции частицы. Но двусмысленность внезапно исчезает, когда частица измеряется; в этот момент волновая функция «схлопывается», и частица принимает одно из своих возможных значений.Проблема измерения, что вызывает беспокойство, подразумевает, что физическая сфера в некотором смысле определяется нашим восприятием ее.
Чтобы решить эту и другие загадки, некоторые физики сейчас пытаются преобразовать квантовую механику в форму теории информации — дисциплины, созданной в 1940-х годах математиком Клодом Шенноном. Информация, по определению Шеннона, может рассматриваться как способность системы удивить наблюдателя. Войцех Х. Зурек из Лос-Аламоса и другие предположили, что очевидная дихотомия между наблюдателем и наблюдаемым объектом может быть устранена, если все физические процессы будут рассматриваться как информация, а не как строго физические явления.
Но решение проблемы измерения таким способом аналогично решению проблемы разума и тела, предполагая, что вся материя является проявлением разума. В конце концов, информация существует только в том случае, если есть сознательные обработчики информации, которые ее воспринимают. Джонсон, хотя и кажется сочувствующим парадигме, основанной на информации, признает ее фатальный недостаток. «Если бы человечество было стерто с лица земли, компьютеры продолжали бы работать до тех пор, пока не закончатся запасы энергии. Но можно ли было бы сказать, что без интерпретатора они действительно обрабатывают нечто, называемое информацией?» Насколько нам известно, Вселенная была лишена жизни 4 миллиарда лет назад; разумная, осознающая себя жизнь, способная создавать науку, могла существовать только последнюю долю секунды космического времени.Как же тогда информация может быть фундаментальным свойством реальности?
Как показывает Джонсон, другие интерпретации квантовой механики также подрывают легковерие. Согласно многомировой интерпретации, например, квантовая сущность, такая как электрон, на самом деле следует всеми путями, разрешенными квантовой механикой — в отдельных вселенных. Что еще хуже, ни одна из самых популярных интерпретаций не может быть эмпирически дифференцирована. Когда физики вообще хотят интерпретировать (а многие этого не делают, предпочитая отступать к инструментализму), они предпочитают одно другому, прежде всего по эстетическим причинам.
Настоящая цель Джонсона в исследовании философских основ квантовой механики состоит в том, чтобы поставить под сомнение ее статус абсолютной истины, которую физики извлекли непосредственно из платоновского царства. Джонсон спрашивает, открыли ли физики квантовую механику или воображали ее? Возможны ли другие, возможно, более разумные модели микромира? Один из способов ответить на такие вопросы — принять собственное описание научных теорий Джонсоном как карту природы. Дорожные карты основаны на определенных соглашениях и формализмах, как и карты, которые ученые строят для атомного ядра, или Млечного Пути, или генома человека.Но тот факт, что эти формализмы изобретены, не делает одинаково воображаемыми дороги, нейтроны, галактики и гены.
Формализмы сами по себе не всегда имеют смысл. Формализм Ньютона для гравитации, например, казался его современникам оккультизмом. Как одна вещь может тянуть за собой другую на огромных расстояниях в пустом пространстве? (В 1995 году в редакционной статье Nature был поставлен вопрос, смог бы Ньютон опубликовать свою теорию сегодня, учитывая ее очевидную нелепость.) Но главное, что формализм работает; его правде не угрожает простая странность. То же самое и с квантовой механикой — и с формализмами Эйнштейна. Что может быть более шокирующим для здравого смысла, чем искривленное пространство и сжимаемое время? Но эти концепции тоже работают, даже лучше, чем версия гравитации Ньютона.
Возникает вопрос: соответствуют ли эти теории гравитации чему-то реальному в природе? Подтверждают ли физики свои теории, когда они говорят о гравитации как о чем-то реальном, а не изобретенном? В конце концов, мы не можем видеть гравитацию так же, как мы видим нейроны, летучих мышей или красные звезды-гиганты; мы можем только предполагать существование гравитации.Тем не менее я верю — и большинство ученых и даже не ученых верят, — что в природе есть что-то реальное, о чем можно сказать как о теории Ньютона, так и о теории Эйнштейна. Справедливо можно сказать, что Ньютон открыл, а не изобрел гравитацию, хотя его математический формализм сам по себе является изобретением.
Можно с полным основанием спросить, возможны ли лучшие математические и концептуальные формализмы? Возможно. Но квантовая механика и общая теория относительности, главные формализмы современной физики, уже описывают поведение материи при любых обстоятельствах, кроме самых экстремальных.Эти формализмы настолько поразительно эффективны, что их можно рассматривать как виртуальные открытия; то есть в ретроспективе их создание кажется столь же неизбежным и бесповоротным, как и наше различение атомов, элементов и галактик.
Джонсон совершенно прав в том, что физики часто слишком увлекаются их формализмами. Он справедливо задается вопросом, представляют ли такие концепции, как симметрия, которая стала путеводной звездой физики элементарных частиц, истины сами по себе или просто полезные математические инструменты.Объект считается симметричным, если он может претерпевать определенные математические преобразования, такие как вращение вокруг оси, и оставаться практически неизменным. Именно симметрия позволила физикам показать, что так же, как электричество и магнетизм являются двумя аспектами одной силы, так и электромагнетизм и проявление слабой ядерной силы объединенной электрослабой силы.
В поисках подобных платоновых свойств некоторые физики предположили, что космос возник в частицах с богатой симметрией, называемых суперструнами.Эти почти бесконечно податливые петли из на — вещества якобы дали начало всей материи, силам, пространству и времени. «Вначале, — пишет Джонсон, — был мир математической чистоты, который разрушился, чтобы дать рождение миру, в котором мы находимся. Чем эта вера так отличается от Падения из Эдемского сада или появления Тева из небесного подземного мира? »
Сравнение мифов Тева и теории суперструн не совсем несправедливо. Считается, что суперструны извиваются в микромире, более удаленном от вмешательства человека с практической точки зрения, чем квазары, скрывающиеся на краю видимой вселенной, и они существуют не только в четырех измерениях, в которых мы живем (три пространственных измерения плюс время), но и как минимум в шести дополнительных.Прямых эмпирических свидетельств, подтверждающих существование суперструн, нет и почти наверняка никогда не будет. Для исследования масштабов расстояний и энергий, на которых, как считается, обитают суперструны, потребуется ускоритель частиц в радиусе 1000 световых лет.
По вопросу о суперструнах мы с Джонсоном полностью согласны. Теория суперструн кажется продуктом не эмпирического исследования природы, а своего рода религиозного убеждения в симметричной структуре реальности.Некоторые физики элементарных частиц придерживаются того же мнения. Шелдон Глэшоу, один из создателей теории электрослабого взаимодействия, высмеивал исследователей суперструн как «эквивалентов средневековых теологов».
Такой скептицизм существенен. Без него не может быть прогресса ни в науке, ни в гуманитарных науках, ни в каком-либо виде знания. Но насколько мы должны быть настроены скептически? Если зайти слишком далеко, скептицизм достигает высшей точки в конечном препятствии для разговора — солипсизме. В ночной дискуссии, подпитываемой контролируемыми веществами, студент-второкурсник может предположить, что он не что иное, как мозг, сидящий где-то в чане с химическими веществами, запрограммированный инопланетными учеными на представление всего его опыта.Но как ни забавно это предположение, оно не поддается проверке и, следовательно, ненаучно.
Религиозные мифы примерно так же либо явно ошибочны, либо не поддаются проверке. Геологи вне всяких разумных сомнений доказали, что Земля образовалась не 6000 лет назад (как полагают некоторые фундаменталисты), а примерно 4,5 миллиарда лет назад. Ученые не могут доказать, что Бога не существует (хотя, как утверждал биолог Ричард Докинз, концепция милосердного Бога определенно опровергается доказательствами).Но фундаменталисты также не могут показать, что Бог существует. Таким образом, Бог — ненаучная концепция.
Джонсон хорошо осведомлен обо всем этом, и все же он по-прежнему просит нас учитывать, что на определенном уровне наука также может быть вопросом веры и разума. Более того, его сомнения разделяют многие ученые. Например, физик Фримен Дайсон любит утверждать, что наши нынешние знания будут казаться будущим ученым такими же примитивными, как нам кажется физика Аристотеля.
Почему люди, столь очевидно знающие и уважающие — даже даже преклоняющиеся — перед наукой, как Дайсон и Джонсон, так близки к релятивизму? Моя собственная теория состоит в том, что альтернатива для них намного хуже: конец науки.Они признают, что наука, если она способна к абсолютной истине, вскоре может стать жертвой собственного успеха. В конце концов, исследователи уже нанесли на карту всю Вселенную, от микромира кварков и электронов до макрообласти галактик и квазаров. Физики показали, что вся материя состоит из нескольких элементарных частиц, которыми управляют несколько основных сил.
Ученые также объединили свои знания во впечатляющее, хотя и неполное, повествование о том, как мы появились.Вселенная возникла 15 миллиардов лет назад, плюс-минус пять миллиардов лет, и все еще расширяется. Около 4,5 миллиардов лет назад обломки сверхновой звезды конденсировались в нашей Солнечной системе. В течение следующих нескольких сотен миллионов лет на этой планете появились одноклеточные организмы, несущие гениальную молекулу под названием ДНК. Эти первобытные микробы породили посредством естественного отбора необычайное множество более сложных существ, включая Homo sapiens.
Я предполагаю, что этот современный миф о сотворении мира будет столь же жизнеспособным через 100 или даже 1000 лет, как и сегодня.Почему? Потому что это правда. Фактически, учитывая, как далеко наука уже продвинулась, и учитывая физические, социальные и когнитивные ограничения, сдерживающие дальнейшие исследования, наука может мало что добавить к знаниям, которые она до сих пор завещала. В той мере, в какой наши текущие знания верны, превзойти их намного труднее.
В 1965 году Ричард Фейнман, как всегда обладающий даром предвидения, предсказал, что наука зайдет в этот тупик. «Эпоха, в которой мы живем, — это эпоха, в которой мы открываем фундаментальные законы природы, и этот день никогда больше не наступит.«После того, как великие истины будут открыты, — продолжил Фейнман, — произойдет вырождение идей, точно такое же, как вырождение, которое испытывают великие исследователи, когда туристы начинают переезжать на новую территорию».
Как указывает сам Джонсон, наука оставила без ответа некоторые довольно важные вопросы: как именно возникла Вселенная? Мог ли он возникнуть как-то иначе? Насколько неизбежным было возникновение жизни на Земле и ее последующая эволюция? Существует ли жизнь где-нибудь во Вселенной? Попытки ответить на эти вопросы — и выйти за пределы общепринятой мудрости — побудили некоторых амбициозных творческих ученых отказаться от эмпирических исследований, обратив их к теориям, более близким к философии или искусству, чем к науке в общепринятом смысле.
Если теория суперструн и другие непроверяемые гипотезы сигнализируют об упадке истинной эмпирической науки, это трагедия для человечества. Несмотря на все свои достижения, наука была чем-то вроде разочарования. В результате мы все еще страдаем от войн, болезней, бедности, этнических конфликтов и множества меньших зол. Он разрушил суеверия, делавшие жизнь значимой, не предлагая нам утешительной замены. Как однажды сказал сам Стивен Вайнберг: «Чем больше вселенная становится понятной, тем больше она кажется бессмысленной.«
Джонсон, я подозреваю, согласится. Для таких искателей, как он и Дайсон, возможность того, что наука приближается к завершению, пугает, потому что поиск истины, а не сама истина, делает жизнь осмысленной. Скептическая позиция позволяет Джонсону, Дайсону и другим сохранять надежду на то, что великая эпоха открытий еще не закончилась, что впереди ждут новые открытия и революции. Они готовы пожертвовать понятием абсолютной истины, чтобы истину можно было искать вечно.
Независимо от того, окажутся ли правы эти любящие науку скептики, такие книги, как книга Джонсона, бесценны.Витгенштейн в своей прозе Tractatus Logico-Philosophicus писал: «Не то, как мир есть, мистично, но то, что он есть». Витгенштейн знал, что самая возвышенная из человеческих эмоций состоит из чистого ошеломления перед тайной существования. Указывая на все недостатки науки, на все вопросы, которые она поднимает, но оставляет без ответа, Джонсон внес свой вклад в то, чтобы наше чувство удивления не исчезло в ближайшее время.
Дополнительная литература :
Конец науки (издание 2015 г.).
Я ошибался насчет Конец науки ?
Что Томас Кун на самом деле думал о научной «истине».
Физик Стивен Вайнберг все еще мечтает об окончательной теории.
Профиль Стивена Вайнберга: из Конец науки .
Physics Titan по-прежнему считает, что теория струн «на правильном пути».
Если вы хотите больше шумихи о Хиггсе, не читайте эту колонку.
Почему информация не может быть основой реальности.
Стивен Джей Гулд о Марксе, Куне и панк-мике.
Неужели социология захвачена постмодернистами? Возможно нет.
Социальные науки заражены постмодернизмом? Кажется, это постоянный рефрен в Твиттере и на других площадках для социальной критики. Постмодернизм, как правило, является общим термином для всех видов радикального социального конструкционизма, включая литературных постмодернистских мыслителей (Жак Деррида, Мишель Фуко), интерсекционалистов (людей, которые описывают свою область исследования как «расу, класс и пол») и «культурные». Марксисты »(правый собачий свисток для теоретиков Франкфуртской школы, таких как Теодор Адорно, Макс Хоркхаймер и Герберт Маркузе).
Все это похоже на совсем другую академию, чем та, в которой я работал почти 30 лет (восемь в аспирантуре, затем двадцать в качестве штатного профессора Университета Юты). Хотя я преподаю на междисциплинарном факультете, я получил образование социолога и иногда идентифицирую себя как профессионал. Мой опыт связан с дисциплиной, посвященной эмпирическому изучению социального мира, а не кучкой раздумывающих нигилистических теоретиков.
Социология — эклектическая область.Как ученый, который в основном анализирует большие национальные наборы данных, я мало знаю о моих коллегах, проводящих архивные исследования государственных документов 19 -х годов века, участвующих в наблюдениях в метадоновых клиниках, компьютерных симуляциях социальных сетей или выявлении антиномий в основополагающих текстах Макса Вебера. Может быть, этот улей активности скрывает постмодернистскую чуму, скрывающуюся где-то под поверхностью?
Чтобы выяснить это, мой научный сотрудник провел небольшой опрос.Она проинспектировала веб-страницы факультетов семи ведущих школ (Гарвард, Стэнфорд, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Мичиган, Калифорнийский университет в Беркли, Висконсин, Чикагский университет) и тринадцати низших факультетов (Университет штата Луизиана, штат Калифорния — Лонг-Бич, Сиракузы, штат Калифорния- Чико, Канзасский университет, Университет Северной Аризоны, Государственный университет Монтклера, Государственный университет Болла, Университет Центральной Флориды, Дэвидсон-колледж, Миддлбери-колледж, Университет Северной Дакоты, Государственный университет Таусона). Для каждой школы она определила преподавателей с заявленными интересами к постмодернизму, к чему-либо критическому (чаще всего критическая теория, но может также включать критические исследования рас, критическую демографию и т. Д.) Или расу / класс / пол.
Результаты показывают дисциплину, коллективно незаинтересованную постмодернизмом. Среди семи лучших школ только один преподаватель указал расу / класс / пол в качестве исследовательского интереса. Неудивительно, что в школах нижнего уровня было еще несколько положительных результатов. На веб-страницах факультетов этих тринадцати школ перечислены 193 штатных или штатных профессора и 27 дополнительных преподавателей (то есть адъюнктов или лекторов). Преподаватели, работающие по краткосрочным контрактам, а это, возможно, и большинство преподавателей, вряд ли будут иметь веб-страницы факультетов, и поэтому они недостаточно представлены в моем подсчете.
Среди низших школ есть двенадцать преподавателей, заинтересованных в расе / классе / гендере (т.е. интерсекционалисты), один критический теоретик, но нет самопровозглашенных постмодернистов. В одной школе, Cal State-Long Beach, было четыре преподавателя-интерсекциониста (в ней также есть по крайней мере один консерватор, сохраняющий некоторое разнообразие точек зрения).
Этот неслучайный опрос американских социологических факультетов показывает, что моя заведомо левая дисциплина , а не , захваченная постмодернистами.Конечно, они есть, но далеко не в большинстве.
Две оговорки
1) Условные преподаватели недостаточно представлены в моем опросе, и я подозреваю, что они, скорее всего, будут постмодернистами. Здесь я полагаюсь на проницательный анализ социолога Нила Гросса, возможно, передового современного студента, изучающего политические убеждения факультета. Он утверждал, что преподаватели, которые, скорее всего, будут вести себя ненадлежащим образом, делая экстремистские политические заявления (например, публично призывая к казни президента Соединенных Штатов), являются условными инструкторами.Предположительно ученые, склонные к радикальным публичным заявлениям, придерживаются радикальных идеологий.
2) Вероятно, ошибочно думать, что все постмодернисты одинаково радикальны. Впервые интерсекциональность была предложена в статье 1989 года ученого-юриста Кимберли Креншоу. Его первоначальное понимание — что, скажем, расизм и сексизм иногда действуют одновременно, — не было особенно радикальным в своем диагнозе и предписании. Это говорит о том, что к 2009 году Креншоу хеджировал: «[Я] поражен тем, как [интерсекциональность] используется чрезмерно и недостаточно; иногда я даже не могу узнать это в литературе.«Я не собираюсь тратить свое время на чтение множества научных работ, не имеющих отношения к моим исследовательским интересам, но я подозреваю, что некоторые умеренные интерсекционалистские исследования все же предложат достоверные эмпирические выводы. Много ерунды; остальным можно было бы воспользоваться, оторвав его от теоретического багажа.
Так где же постмодернисты?
Гуманитарные, особенно английские факультеты. Школы образования. Кафедры «Культурология». Европа (похоже, что в европейской социологии гораздо больше ученых-постмодернистов).
Но их не так много на факультетах социологии, особенно в ведущих школах.
постмодернизма | 228 Основной
Модернизм — это философское движение, возникшее в результате далеко идущих преобразований, произошедших в западном обществе в конце 19 века. Это уступило место скептицизму конца 20-го века, который привел к движению, которое мы называем постмодернизмом.
Это создает основу для нашего обсуждения современной теории портфеля (MPT) и нашего ответа на нее.
Если вы когда-нибудь видели обычную круговую диаграмму распределения активов или слышали разговоры о доступе ко всем основным «классам активов», то вы были подвержены MPT. Он предполагает, что исторические данные о поведении всех различных видов инвестиций позволяют компьютерам рассчитать наилучшее сочетание холдингов для получения желаемой прибыли с наименьшим уровнем риска. Одна инвестиция делает резкий скачок, когда другая делает резкий скачок, делая общий портфель более стабильным, чем он мог бы быть в противном случае.
Отличная теория.Вот проблемы, которые возникают на практике:
1. Во времена наибольшего стресса на рынках, когда вам больше всего нужна MPT для работы, исторические корреляции исчезают, и активы с наиболее завышенной ценой оказываются под ударом, независимо от того, что думает компьютер.
2. Здравый смысл и фундаментальный инвестиционный анализ часто показывают, что один кусок пирога активов, вероятно, оставит очень горький привкус. Значительный рост акций в 2000 г., недвижимости в 2007 г., сырьевых товаров в 2011 г.… теперь всем известно, что наилучшим отводом на эти пузыри с завышенной ценой было НОЛЬ.
3. Хотя дисциплина MPT снижает ущерб от контрпродуктивного поведения толпы, она не устраняет ущерб и не позволяет извлечь выгоду из безумия толпы.
Наш подход к управлению инвестициями, основанный на скептицизме, порожденном глубоким знанием MPT, основан на трех фундаментальных принципах. Мы считаем, что эти принципы неподвластны времени и подходят для любого рынка. Мы писали о них раньше, мы напишем о них снова, и мы постоянно говорим о них в течение двадцати лет.А пока давайте просто отметим, что как реакция на современную теорию портфеля, они могут быть лучше всего известны как «постмодернистская теория портфеля».
Мнения, высказанные в этом материале, предназначены только для общей информации и не предназначены для предоставления конкретных советов или рекомендаций какому-либо человеку.
Нет гарантии, что диверсифицированный портфель повысит общую доходность или превзойдет недиверсифицированный портфель. Диверсификация не защищает от рыночного риска.
Нравится:
Нравится Загрузка …
Человек постмодерна | Умный набор
Прошло более 30 лет с тех пор, как Жан-Франсуа Лиотар закрыл историческую дверь
на тему модернизма. Точнее, в 1979 году Лиотар
опубликовал «Состояние постмодерна: отчет о знаниях ».
Слухи о смерти модернизма ходили годами. Но смерть
наступает поэтапно, особенно когда смертельно раненый — это «движение»
или «возраст».В книге Лиотара удалось связать все эти слухи воедино
и затем упаковать результат как «постмодернизм», следующее новое слово.
- Голод реальности: Манифест Дэвида Шилдса. 240 страниц. Кнопф. 24,95 долларов США.
Лиотар сосредоточился на идее повествования. Прошлые периоды, в частности модернизм, любили то, что он называл «мета-нарративами», всеобъемлющими нарративными рамками, которые более или менее объясняли все. Подумайте, например, о марксизме и о том, как классовая борьба движет всеми остальными частями истории.Посмотрите на предметы вокруг себя, на то, как вы одеты, на текущую политику, движения в искусстве. Избавьтесь от деталей, любой хороший марксист скажет вам, и вы обнаружите, что под ними скрывается классовая борьба. Эта бутылка воды, которую вы пьете, по сути, является природным ресурсом, принадлежащим тому, кто затем нанимает рабочих, нанимаемых на работу по цене, определяемой рынком. Эти центральные отношения между наемными работниками и владельцами средств производства определяют политические структуры, представления о морали и даже динамику семьи.Для марксиста классовая борьба — это мета-нарратив, охватывающий все другие истории, которые вписываются внутрь.
Лиотар называл новую эру постмодерном, потому что считал, что такие мета-нарративы больше не отражают сложность существования конца 20-го века. Фрагментация идентичности, вызванная модернизацией и глобализацией, была слишком глубокой. В лучшем случае любое повествование расскажет только небольшую часть истории. Мета-рассказы разлетелись на части в бесконечный хаос микронарративов.
Все это, вероятно, звучит примерно правдоподобно, если не совершенно очевидно. Единственная реальная трудность заключается в том, чтобы послушать, как Лиотар говорит о постмодернизме:
Постмодерн — это то, что в модерне выдвигает непредставимое в самом представлении; то, что отрицает утешение хороших форм, консенсус вкуса, который позволил бы коллективно разделить ностальгию по недостижимому; то, что ищет новые презентации не для того, чтобы насладиться ими, а для того, чтобы передать более сильное ощущение непрезентабельного.
Нужно ли мне вообще выделять время, чтобы указать, насколько старомодно звучат эти предложения мистера Лиотара? Они похожи на пародию на модную академическую прозу. Как и все, что написано модернистским мыслителем, они умудряются быть бессмысленно неясными. Это увлечение «выдвижением непредставимого в самой презентации» было пугающим для французских теоретиков всех мастей в 70-х годах. У Америки было Пять легких пьес ; у французов был Морис Бланшо и понимание того, что «писать — значит делать себя эхом того, что не может перестать говорить, а поскольку оно не может, чтобы стать его эхом, я должен в некотором роде заставить его замолчать.”
Подобное безумие жаргона было характерно для многих в первом поколении постмодерна, как французских, так и нефранцузских. Они походили на расстроенных модернистов. Они хотели скакать к абсолютной свободе своих микронарративов, но все они выросли на тяжелой каше модернистского ханжа. Эти толстые животы никогда не могли оторваться от земли. Лиотар продолжил The Postmodern Condition с The Differend: Phrases in Dispute , в котором он попытался ответить на ключевой вопрос: «Как можно подчинить реальность референта выполнению процедур проверки или даже инструкциям. которые позволяют любому желающему выполнить эти процедуры? » Ответ, конечно же, такой: «Не может.«К счастью для всех нас, оказывается, что это не имеет значения. Но потребовалось около 30 лет, чтобы полностью убедиться в этом факте. Только теперь, прожив в условиях постмодерна целое поколение, мы перестали беспокоиться о реальности референта и перешли к простому акту референции.
Это потребовало значительного обучения: научиться быть, как говорить, как снова думать. Это означало, по крайней мере, разработку нового языка, нового стиля. Этот стиль должен олицетворять многое из того, о чем говорил Лиотар, но при этом отказаться от своего способа говорить об этом.Это также означает отказ от теоретических забот. Лиотар всегда крутил себя в риторических кренделях, пытаясь доказать модернистам, что постмодернизм реален. Постмодернисты второго поколения прекрасно, возможно, болезненно осознают реальность постмодернизма. Они хотят знать, как жить в этой реальности, как понять ее.
Это подводит нас, наконец, к новой книге Дэвида Шилдса, Reality Hunger . Это книга отрывочных мыслей и прозрений под номерами от 1 до 617, разделенная на главы с названиями типа «книги для людей, которые считают телевидение слишком медленным.Шилдс называет это «Манифестом». Это небольшая шутка с его стороны, поскольку не может быть ничего более модернистского, чем манифест, несмотря на все громкие заявления и мета-нарративы. Но Шилдс написал Манифест 21-го века, манифест в минорной тональности, который следует тону одной из вступительных цитат Грэма Грина: «Когда мы не уверены, мы живы». Эта живость и неуверенность — вот что Шилдс подразумевает под реальностью. Это то, чего он жаждет.
Первое поколение постмодернистов, например Бодрийяр, постоянно изо всех сил старались показать нам, что новая реальность была сфабрикована и, следовательно, в смешном смысле не совсем реальна. Бодрийяр назвал это симулякром. Реальность полностью превратилась в симуляцию. Искать реальность, лежащую в основе моделирования, значило упустить главное. Постмодернисты второго поколения, такие как Шилдс, находят такие проблемы скучными. Шилдс говорит о том, что он называет «американской реальностью»:
Это ошеломляет, приводит в ярость и, наконец, это даже своего рода смущение для скудного воображения.Реальность постоянно превосходит наши таланты, а культура почти ежедневно подбрасывает фигуры, которым может позавидовать любой писатель.
Обратите внимание на тонкий, но глубокий сдвиг в отношении. Мы перешли от беспокойства о том, существует ли вообще какая-то реальность, к огромной необъятности реальности, с которой мы сталкиваемся. Шилдсу не терпится просто попасть в бурлящую мировую неразбериху. Он отмахивается от неуклюжих взглядов постмодернистов первого поколения, махнув рукой.«Не тратьте время зря, — говорит он, — займитесь настоящим. Конечно, что такое «настоящее»? Тем не менее, постарайтесь добраться до него ». Взяв за основу идеи Энди Уорхола (постмодернист во втором поколении, рожденный далеко впереди своего времени), Шилдс говорит: «Мэрилин и Элвис являются такой же частью мира природы, как океан и греческий бог». Это территория новой естественности, новой реальности. Шилдс определяет это одной лаконичной строкой: «Все и ничего не происходит».
Это некоторые из заявлений, которые Шилдс делает в Reality Hunger , и они удовлетворяют всем требованиям.Они достаточно хорошо согласуются с тем, о чем говорил Лиотар в своем Постмодернистском условии . Настоящее волнение Reality Hunger заключается в том, как Шилдс говорит о нашем отношении к реальности, на языке, который он использует. Когда дело доходит до постмодернизма, проза наконец начинает соответствовать этому условию. Постмодернисты первого поколения всегда писали так, будто стояли у входа в постмодернизм и заглядывали внутрь. Приговоры падали на Землю, как бомбы. И никто не любит, когда тебя бомбят.Дэвид Шилдс никого не бомбит — он здесь, на Земле, а все мы работаем изнутри. Ваш стандартный постмодернист первого поколения был поклонником коллажа, бриколажа и прочего, но имел тенденцию демонстрировать эти вещи в профессорской манере. Нам давали теории коллажа, забивали по голове концепциями. Шилдс подчеркивает то же самое, просто говоря: «Я вполне доволен тем, что в будущем стану человеком, работающим с ножницами и клея». Вся книга представляет собой гигантский словесный коллаж, но без излишне застенчивого взгляда на то, что я делаю.В большинстве случаев он просто делает это.
Успех Reality Hunger заключается в том, как часто он излагает идеи, которые у вас уже есть. Это просторное пальто мышления и поведения, которое мы все мягко накидывали на плечи последние два десятилетия. Время от времени Шилдс тратит абзац, просто выпаливая список работ:
Дэвид Фостер Уоллес Якобы забавная вещь, которую я никогда больше не буду делать и Рассмотрим Lobster .Леонард Майклз Shuffle . «Курящие диалоги» Саймона Грея, которые затмевают его пьесы. Zadie Smith’s Fail Better . Пролог к Бойня № 5 — лучшее, что когда-либо писал Воннегут. Джин Стаффорд «Мать в истории» . Самуэля Пеланга «Движение света в воде ». Black Lamb and Gray Falcon Ребекки Уэст.
Ему не нужно больше ничего говорить. Это уверенность в языке и настроение Reality Hunger .Вы читаете этот список и просто киваете головой… ага. Тот, кто не попал в этот список, просто не играет в игру. Этой книгой Шилдс начал новый список. Это выглядит так:
Реальный голод . • 18 февраля 2010 г.
постмодернистских взглядов двух японских писателей на Фолкнера: Харуки Мураками и Кендзи Накагами
Постмодернистские взгляды двух японских писателей на Фолкнера: Харуки Мураками и Кендзи Накагами
Такако Танака, Городской университет Нагоя, Япония
Харуки Мураками и Кендзи Накагами, два современных японских писателя, демонстрируют контрастное характеристики современных постмодернистских романистов в Японии: романы Харуки Мураками саморефлексивны и сознательно подражательны и часто сюрреалистичны, в то время как Кенджи Романы Накагами, как правило, отмечены постколониалистской озабоченностью патриархатом, дискриминация и телесность.Харуки Мураками, родившийся в 1949 году, теперь может быть самый популярный японский писатель, как в Японии, так и за рубежом. Многие тексты Мураками переведено на английский, немецкий, китайский, русский, итальянский и другие языки. 1 Кендзи Накагами, родившийся на три года раньше Мураками в 1946 году, был признан рано в своей карьере одного из литературных мастеров послевоенной Японии, и ожидалось, что он сменил Кензабуро Оэ, лауреата Нобелевской премии по литературе в 1994 году.Накагами объявил о большом влиянии Уильяма Фолкнера на его литературное воображение, как и Кензабуро Oe сделал. К сожалению, Накагами умер от рака почки в возрасте 46 лет в 1992 году, и лишь некоторые его тексты переведены на английский, французский, немецкий и итальянский языки.
Тем не менее, у Накагами есть восторженные поклонники, особенно среди литературных критиков, большинство из них холодно относятся к Харуки Мураками.На самом деле есть цепкие критика в адрес Мураками, например, резкое осуждение Масао Миёси своего компромисса к коммерциализму (Off Center 234-36). Акцент Мураками на стиле и осознанности языка как фиктивного конструкта, как правило, вызывает негативную реакцию со стороны постколониалистов. критики. Тем не менее, стоит сравнить Мураками с Накагами и Уильямом. Фолкнера, потому что Мураками иногда использует Фолкнера в своих текстах, и анализ намек Мураками на Фолкнера может пролить свет на его сложные отношения с Накагами и Фолкнера, а также о проблемах и возможностях постмодернистской литературы.
Я собираюсь продемонстрировать, во-первых, как стиль играет важную роль в творчестве Мураками. текстов, изучив свой рассказ «Ледерхозен», который он взял на себя труд переводить обратно на японский язык из английской версии его оригинального рассказа.
Далее я расскажу о том, к чему стремится Мураками со своими ссылками на Фолкнера, в сравнении с Кендзи Накагами.На Мураками большое влияние оказала американская литература, но он обычно не связан с Уильямом Фолкнером, лауреатом Нобелевской премии и литературным гигант американского Юга в 20 -м гг. Фолкнера, Оэ и Накагами обычно относят к серьезным литературы, а сам Харуки Мураками отказывается от какой-либо категоризации. У Мураками ответ писателям «серьезной литературы», мы можем обнаружить общие темы и проблемы, которые он разделяет с ними, а также замечательный контраст.
Рассказ Мураками «Ледерхозен» был впервые опубликован в Японии в 1985 году. версия этого рассказа вошла в его сборник рассказов, который был издан. Автор Knopf в 1993 году с английским названием «Слон исчезает». Затем книга была издана на японском языке в 2005 году в Японии. Истории в японском издании в основном основаны на об авторизованных текстах Мураками, уже опубликованных в Японии, но Мураками перевел рассказ «Ледерхозен» заново из английской версии Кнопфа.Во введении к Японские читатели, Мураками говорит, что перевел рассказ просто для развлечения. По всей видимости так. Но, выбирая эту историю, Мураками был достаточно чувствителен, чтобы понять, что так важно для его письма.
Английская версия «Lederhosen» немного отличается от оригинальной японской. версия. В первоначальной версии писатель-рассказчик вначале говорит, что он собирается написать своего рода набросок, основанный на эпизоде из реальной жизни.Английская версия удаляет это введение и начинается полностью как художественная литература. В виде в результате английская версия лучше воспринимается как история, чем оригинальная версия. Мураками говорит, что мелкие изменения в «Ледерхозене» сделаны. переводчиком Альфредом Бирнбаумом, по просьбе редактора журнала, впервые опубликовала английскую версию рассказа. 2
«Ледерхозен» — это история о разводе женщины средних лет, рассказанная ее дочерью, который снова повествует писатель-рассказчик. Мать женщины успела навестить Германия, и во время своего пребывания она пыталась купить ледерхозен, пару походных штанов. с погонами, по просьбе ее мужа в Японии. Но два старых брата владелец известного магазина ледерхозена настаивал, чтобы все примерили пару, прежде чем они может идеально подстроить его под клиента.Итак, когда женщина увидела проходящего мимо немца, которая была примерно того же возраста и примерно того же роста, что и ее муж, она схватила его, объяснила ситуацию и попросила заменить ее мужа. Но пока женщина в хорошем настроении наблюдала, как мужчина примеряет ледерхозены и передвигается, она начала понимать, что ненавидит своего мужа. Она была верной женой, и хотя у ее мужа в прошлом были романы с другими женщинами, это были эпизоды из прошлого, и они предположительно были хорошей, хорошей парой.Однако женщина обнаружила что она не может больше его терпеть. Вернувшись из Германии, она пошла прямо к ней дом сестры и подал прошение о разводе. Больше она мужа не видела.
В «Ледерхозене» женщина осознает свою скрытую ненависть к мужу через новая пара штанов, транспортное средство, которое ориентировочно представляет ее муж.Не материальное существование, но его случайный знак пробуждает ее подавленные эмоции. И просто когда ледерхозены внезапно озадачили женщину, Мураками, должно быть, оценил суть его рассказа лучше в английской версии. Английская версия обслуживала его как ледерхозен, который подтвердил важность транспортного средства в истории, и предположительно этот факт настолько развеселил Мураками, что он сделал перевод, что для него было необычно. делать.
Ледерхозен — это то, что женщина обещала привезти из Германии у своего мужа. запрос. Жена всеми силами пытается реализовать свое перформативное высказывание. В каком-то смысле их брак, постоянный перформативный акт, делающий друг друга счастливыми, представлен в паре штанов. «Все дело в том» (129), как дочь женщины подчеркивает в конце, это ледерхозены, которые муж даже не получил, ни надевал.Тонкое ощущение дислокации и пустоты просачивается внутрь, и история влияет на тех, кто его слушает и пересказывает заново. Эпизод, безусловно, помог женщина, чтобы увидеть реальное состояние ее ума, и дочь женщины, наконец, обрела лучше понять развод матери, когда она услышала эту историю. Но история также доказали неустойчивость и пустоту любви, а также патриархальной власть.Этот эпизод заставил дочь отказаться от любых обязательств по постоянному привязанность. Даже отношение рассказчика к своей жене слегка пошатнулось: история он слышит во время отсутствия жены, и смутно напоминает ему о возможности того, что его жена может также внезапно покинуть его.
Образ пары изобилует «Ледерхозенами»: пара штанов, женщина и ее муж, ее муж и его немецкий заменитель, два брата из магазина ледерхозена, женщина и ее дочь, рассказчик и его жена.В конце рассказа все позиции пары несколько изменены, за исключением, вероятно, немецких мейстеров. Оригинал рассказ и его перевод тоже составляют пару, и перевод обязательно меняет оригинальный сюжет, правда, немного. Перевод мало чем отличается от перформативного высказывания потому что исполнение исходного текста навсегда откладывается из-за языка барьер.Однако английская версия «Ледерхозена» представляет собой полную беллетристику, и вносит любопытный дисбаланс в оригинальную историю, поскольку оригинал намеренно откладывает свершившуюся беллетристику. Оригинальный рассказ, английская версия и рассказ Мураками. недавно переведенная японская версия представляет собой треугольник из транспортных средств, которые игриво подрывает авторитет подлинного оригинала и подчеркивает эффект отчуждения и разница.
Важность транспортного средства для Мураками может быть дополнительно доказана его связью. другим писателям. Любимые авторы Харуки Мураками — Ф. Скотт Фицджеральд, Дж. Д. Сэлинджер, Раймонд Карвер, Трумэн Капоте, Ирвин Шоу и другие. Пока Кенджи Накагами называет Салмана Рушди своим соперником и признает большое влияние Фолкнера, Харуки Романы Мураками мало похожи на романы Уильяма Фолкнера.Мураками, однако, который тайно пародировал «Безмолвный крик» Кензабуро Оэ (Man’en Gan’nen no Futtoboru), in Pinball, 1973 (1973 nen no Pinboru), 3 должен осознавать Фолкнера. Влияние Фолкнера на романы Оэ, особенно на Безмолвный крик очевиден. Мураками, должно быть, также знал, что Кендзи Накагами, который должен был подражать Оэ как великому писателю, подчеркивал влияние Фолкнера по его текстам.Как мы увидим позже, Мураками небрежно упоминает некоторые тексты Фолкнера. в его романах. Не в стиле Мураками агрессивно бросать вызов другим писателям, но Мураками с его утонченным стилем знает этих «серьезных» писателей.
Кендзи Накагами одержим своей местной общиной в Кишу. Кишу — это довольно крупный полуостров, расположенный в южной части средней полосы материка Япония.Это холмистая отсталая страна с видом на море, изолированная от материка, но богат мифическими легендами и древней историей Японии. Как медленно развивающийся район со сложной историей, он мало чем отличается от штата Миссисипи Фолкнера, где Фолкнер основал свой собственный микрокосмос, графство Йокнапатауфа. Вымышленное сообщество Накагами «Роджи», 4 или сообщество «Аллея» на японском языке, тесно связано с родственными связями и слухами, и это служит ядром его литературного воображения, как и Джефферсон Фолкнера.
Накагами однажды сказал, что ценит Фолкнера титулом «Фолкнер»: Роскошный Юг ». С интуицией художника Накагами почувствовал важность изображения Юга, что означает не только американский Юг, но и К югу от любой страны. Он также видел общий фон крови и общинных уз. как обильная жизненная энергия между его южным родным городом Шингу в Кишу и Фолкнером. Джефферсон.Харуки Мураками, напротив, предпочитает Хоккайдо, северный остров. Японии на юг. Он использует Хоккайдо как основу своей истории в «Дикой овце». Погоня и танцы, танец, танец. Хоккайдо возник после начала вестернизации. Японии в эпоху Мэйдзи, начиная с 1868 года. Искусственно модернизированная территория без долгая история, с суровой, холодной зимой, подходит как сцена Мураками сюрреалистическое, постмодернистское письмо.
Еще одно важное различие между Харуки Мураками и Кендзи Накагами заключается в том, что Накагами происходит из дискриминированного класса в старой Японии, называемого «Буракумин», в то время как Мураками происходит из высшего среднего класса. Буракуминцы произошли от социальных, скорее, чем этническая неприкаянная группа в Японии. 5 Буракумин не отличается от других японцев по внешнему виду, но Буракумин раньше жили вместе в гетто.Теперь, в 21 -м веке , дискриминация буракуминов не существует открыто, но Накагами всегда чувствителен к невидимой дискриминации. Большинство его людей в Накагами романы принадлежат к этому классу буракуминов, и дискриминация частично объясняет, как В вымышленном сообществе Накагами очень сильны семейные и общинные узы.
Критика Накагами японского общества создает подрывного героя.Один из Накагами любимый герой, Акиюки, находится в отчаянном конфликте со своим отцом, который бросил он и его мать, когда Акиюки была маленьким ребенком. Его отец стал печально известным богатый, и сообщество Элли одновременно презирает и боится. Акиюки совершает инцест со своей сводной сестрой и убивает своего сводного брата в драке вопреки патриархальному мощность.Отношения любви и ненависти Акиюки к отцу сильно напоминают отношения Фолкнера. Авессалом, Авессалом !, в котором династия Томаса Сатпена разрушена Чарльзом Боном, который был оставлен Сатпеном из-за его предположительно черной крови.
Романы Харуки Мураками обычно позиционируются как можно дальше от подобных проблем. страсти, крови и родства. Главные герои Мураками часто скучают и впадают в депрессию. с банальностью и анонимностью их положения верхнего среднего класса.Мураками редко пишет об отношениях отца и сына, а его герои отдаляются от своих родные города или имеют небольшие связи со своими семьями. Люди Мураками кажутся живыми в пространстве разбавленного воздуха, в то время как персонажи Кенджи Накагами, как и Фолкнера, почувствовать их сильную одержимость кровью или землей.
Тем не менее, Харуки Мураками иногда показывает, что он знает Уильяма Фолкнера.В 1983 году он написал рассказ под названием «Ная во Яку», «Горящий сарай» в Английский перевод. Содержание рассказа не имеет ничего общего с коротким рассказом Фолкнера. рассказ «Сгорает сарай», но с японского название можно дословно перевести как «сжечь Сарай »или« Горящий сарай ». По сюжету рассказчик от первого лица в современной Район Токио небрежно рассказывает о своей девушке, с которой у него были внебрачные отношения с, но который просто бесследно исчез.Он интересуется одним из девичьих парни, которые говорят ему, что иногда сжигает сарай для развлечения. Но рассказчик не может найти никаких следов пожаров сарая в своем районе.
Краткое изложение истории показывает, что нет ничего похожего на «Сарай Фолкнера». Горение », в которой белый бедняк-подросток с Юга борется между своими чувство социальной справедливости и верность своему отцу, сжигателю сараев.Тем не менее, Мураками рассказчик читает рассказы Фолкнера, ожидая, пока его девушка прилететь на самолете, который опоздал из-за непогоды. (Упоминание короткометражного рассказы в «Сожжении сарая» Мураками появляются только в оригинальной японской версии. Авторизованная версия Мураками и английская версия утверждают, что рассказчик читал три журнала в ожидании, совершенно не обращаясь к рассказам Фолкнера).В романе «Танец, танец, танец», опубликованном в 1988 году, у Мураками также есть его вид от первого лица. рассказчик прочитал «Звук и ярость» Фолкнера, пока он ждал в аэропорту Хоккайдо. для вылета своего самолета, который отстает от графика из-за сильного снегопада.
Что касается «Горения сарая» Мураками, пара японских критиков интерпретирует сарай горение как метафора убийства девушки.Эта интерпретация вполне правдоподобна в отношение к роману «Танец, танец, танец». Близкий друг рассказчика от первого лица, Готан’да-кун в «Танцах, танцах, танцах» признается, что убил Кики, главного героя. подруга, без особого повода. Готан’да-кун красивый, стильный молодой человек, скучающий по жизни, похожий на так называемого сарайчика короткометражного сказка.Затем Готан’да-кун совершает самоубийство, прежде чем рассказчик подтвердит правду признание. Кики только что исчезла, и никто не знает, жива она или мертва. То же самое и с девушкой рассказчика в «Сожжении сарая».
Татео Имамура думает, что убийца в Танце, Танце, Танце служит рассказчиком темный двойник, точно так же, как сжигатель амбара в рассказе Мураками бессознательный двойник рассказчика (Имамура 48).И, как уже упоминалось ранее, оба рассказчика в «Сожжении сарая» и «Танцы, танцы, танцы» читал Фолкнера в аэропорту. Имамура подчеркивает беспомощность постмодернистской ситуации Мураками, в которой люди не могут быть даже уверены того, что есть реальность, в отличие от интенсивности отцеубийственной ситуации в «Горящий сарай» Фолкнера. Действительно, мрачные обстоятельства жизни бедных белых в глубине Юг, и давление патриархальной гегемонии на инициацию мальчика в зрелом возрасте, оказываются совершенно незначительными в суицидальном и самореференциальном мире Мураками «Сжигание сарая.»Однако этот контраст не является пародией или насмешкой: скорее, абсолютная пустота в законе Отца и мягкое отчаяние молодых людей в «Сожжение сарая» Мураками становится ясным из-за акцента диссоциации с Фолкнером сказка. Очевидное отсутствие Отца может быть проклятием.
Фолкнер и Мураками оба одержимы утратой, но люди Фолкнера хотят верить. в физической боли как верный признак чувства потери, вызвана ли боль патриархальной властью или представляет ли это утрату патриархальной власти.Kenji Накагами также считает насилие и физические страдания важными как способ описания потеря в его текстах. У обоих авторов тело используется как свидетельство ощутимого следа. потери, чтобы вспомнить или усомниться в значении потери.
В отличие от Фолкнера и Накагами, главные герои Мураками испытывают трудности с выражая свое чувство утраты в конкретной форме.Подруги рассказчика в А Дикие овцы, Танцы, Танцы, Танцы и «Горение сарая» бесследно исчезают. Рассказчик не может избавиться от угрожающего предчувствия, что его существование столь же эфемерно. как у его девушки. Перед пустой вакансией возникает чувство беспомощности.
Когда Квентин Компсон сожалеет о потере девственности Кэдди в «Звуке и ярости», мы подозреваем, что он больше страдает от потери девственности, чем от физического потеря.Тем не менее, шок от потери девственности его сестры достаточно силен, чтобы ему когда-то снится кастрация. Фуртур, Бенджи Компсон издает длинный вопль всякий раз, когда он слышит имя «Кэдди». Главный герой Мураками в Танцах, Танцах, Танцах, с другой стороны, предполагает его чувство потери своей девушки только косвенно через читая «Звук и ярость». В текстах Мураками влюбленные играют отведенные им роли. ловко и обмениваться классными диалогами, следуя модельным беседам, взятым из Американские романы или фильмы.Люди Мураками должны продолжать играть в виртуальном мире жестами или словами, только один слой удален от действительности, чтобы держаться подальше от беспомощного чувства пустоты.
«Сожжение сарая» Мураками, однако, предполагает глубокое истощение и предел продолжение такой игры. Патриархальная власть, существование которой главные герои Мураками отказываюсь признать, может отсутствовать как всегда.Но Мураками начинает различать некоторые конкретные форма зла из-за очевидного отсутствия или в сюрреалистической ситуации.
Мураками признает, что его беспокойство превратилось из непривязанности в приверженность через землетрясение Хансин и зариновая атака Ому Синрикё в токийском метро в 1995 году. Тем не менее, Мураками был осведомлен о социальных проблемах с самого начала его карьеры и The Wind-Up Bird Chronicle, опубликованной в период с 1994 по 1995 год. Признание Мураками доли своей ответственности перед конкретным бедствия.На самом деле, еще в «Погоне за дикими овцами» (1982) Мураками намекает на Американская культурная колонизация Японии и японская военная колонизация Китай в 1930-е и 1940-е годы. Эта тема колонизации с двойной связью разработана в Хроника заводной птицы. 6
В этом романе Мураками представляет переулок, ведущий от первого лица. дом рассказчика в Токио.Это тупик, куда нет других дорог. Это пришло к существование из-за хаотического бума жилищного строительства в экономическом пузыре 1980-е годы в Японии. Жители, окружающие аллею, не контактируют с каждым Другие. В отличие от сообщества Накагами «Аллея», где персонажи постоянно Наблюдаемая соседями аллея Мураками в The Wind-Up Bird Chronicle — это постмодернистский зона, которая представляет безразличие людей к обществу, но в которой могут скрываться врата в другой, злой мир.
Предположительно, использование изображения переулка, возможной ссылки на тексты Накагами, указывает на то, что Решимость Мураками решать проблемы японского общества по-своему. «Родзи» Мураками, «Аллея», представляет собой современную Японию, страдающую клаустрофобией. Тору Окада, главный герой должен пойти в сухой колодец в конце переулка и подумать о его пропавшей жене, а также о переживании лейтенанта Мамия в Монголии во время Японское вторжение в Китай.На дне темного колодца Окада различает импульс за насилие в подсознании, а также признает желание своего зятя за власть в обществе. Окада учится смотреть в лицо своему подсознанию и полон решимости принять его ответственность против нечестивых, не только в его личном мире, но и в японском общество.
Кендзи Накагами умер два года назад, когда вышла первая часть романа «Ликвидация». Издана «Птичья летопись».Когда Мураками впервые написал рассказ под названием «The Заводная птица и женщины вторника »в 1986 году и упомянул« переулок », возможно, имел в виду сделать пародию на переулок Накагами. Но Мураками пришел выразить тайное почтение Накагами, с изображением аллеи, созданным в основе его разработки The Заводная птичья хроника. Мураками даже печатает загадочную родинку на теле Тору Окады. щека, чтобы он мог вспомнить значение своего опыта в колодце.Мураками кажется, постепенно смиряется с телесностью и проблемами родства в своем космосе, хотя он все еще неохотно использует семейную метафору слишком открыто.
Главные герои Мураками теперь сталкиваются со злом, которое раньше они воспринимали как сюрреалистическое. тайны и были слишком отстраненными, чтобы признать их социальным злом. Автор все еще колеблется напрямую связать проблему родства с обществом, но даже в прежний период в его литературной карьере «Ледерхозен», например, относится к отсутствию отца очень умно.Настойчивость Мураками в утонченном, но плоском стиле может быть защищенным за его отрицание подлинности, но Мураками подошел к концу дорога, где он больше не может танцевать на поверхности своего стиля. Через эксплуатация так называемых серьезных писателей, таких как Фолкнер или Накагами, Харуки Мураками выделяет свою позицию в отличие от них и начинает формировать свое понимание и его собственный стиль ответственности перед обществом.Патриархальная власть может отсутствовать, как предполагают главные герои Мураками, но результат такого отсутствия неоднозначен, поскольку в обществе все еще может скрываться сильная воля к власти. Мураками показал мрачность огромной вакансии в постмодернистской Японии, и теперь он осторожно пытается для обозначения через его сознательное, умелое управление транспортными средствами. Телесность и ответственность теперь играют более важную роль, поскольку его недавний роман «Кафка» на берегу, он предпочитает косвенный подход сюрреалистического стиля и фантазия к прямому обвинению.
Банкноты
1. Международный симпозиум по Харуки Мураками в Токио в 2006 г. прошел весьма успешно. с романистом Ричардом Пауэрсом, который читает свою основную лекцию «Глобальное распределенное Самоотражающееся подземное неврологическое шоу с разделением души ».
2. Мураками, «Amerika de Zo no Shometsu ga Shuppan Sareta Koro», 24.
3. См. Кодзин Каратани, «Мураками Харуки но ‘Фукей’: 1973 нен но Пинбору», Шуэн о Мегутте, 90.
4. «Родзи» — это предыстория романов Накагами, таких как «Мисаки» («Мыс»), Карекинада. (Море Кареки), Chi no Hate, Shijo no Toki (The Ends of the Earth, the Supreme Время).
5.Что касается народа буракумин, см. Джорджа ДеВоса и Х. Вагацума, Японскую газету «Невидимка». Раса: каста по культуре и личности.
6. Чувствительность Мураками к такой ситуации двойной привязки предполагает, что он может ценить Осведомленность Уильяма Фолкнера о двойной ситуации на Юге Америки. Фолкнера Юг эксплуатировал афроамериканцев как рабов и, в свою очередь, эксплуатировал капиталистические экономика Севера.
цитируемых работ
ДеВос, Джордж и Х. Вагацума. Невидимая раса Японии: каста в культуре и личности. Беркли: Калифорнийский университет P, 1966.
Имамура, Татео. «Фокуна Мураками Харуки:« Ная во Яку »во Мегуру Бокен». Фокуна 6 (апрель 2004 г.): 42-49.
Каратани, Кодзин.«Мураками Харуки но ‘Фукей’: 1973 нен но Пинбору». Shuen o Megutte. Токио: Коданша Гакудзюту-Бунко, 1995. 89–135.
Миёси, Масао. Вне центра: властные и культурные отношения между Японией и Соединенными Штатами Состояния. Кембридж: Гарвардский университет, 1991.
Мураками, Харуки. Погоня за дикой овцой. Пер. Альфред Бирнбаум. Нью-Йорк: Винтаж, 2002.
—. «Америка де Зо но Шомэцу га Шуппан Сарета Коро». Зо но Шомэцу: Танпеншу 1980–1991. Токио: Синчо Ша, 2005. 12–26.
—. «Горящий сарай». Слон исчезает. Пер. Альфред Бирнбаум и Джей Рубин. Нью-Йорк: Винтаж, 1994. 131-49.
—.»Ледерхозен». Слон исчезает. Пер. Альфред Бирнбаум и Джей Рубин. Новый Йорк: Винтаж, 1994. 119–29.
—. Хроника заводной птицы. Пер. Джей Рубин. Нью-Йорк: Винтаж, 1998.
—. Зо но Шомэцу: Танпэншу 1980–1991. Токио: Синчо Ша, 2005.
Накагами, Кендзи. Мыс и другие истории из японского гетто. Пер. с Предисловие и послесловие Евы Циммерман.Беркли: Stone Bridge P, 1999.
—. Чи-но-Ненависть, Шидзё-но-Токи. Токио: Синчо-Бунко, 2004.
.—. «Фолкнер: Роскошный Юг». Фолкнер: После Нобелевской премии. Эд. Мишель Грессет и Кензабуро Охаши. Киото: Издательство Ямагути, 1987. 326-36.
—. Карекинада. Токио: Кавадесобо Шинша, 1985.
Накагами, Кендзи и Харуки Мураками.«Сигото но Генба Кара». Кокубунгаку: Кайсаку to Kyozai no Kenkyu 30.3 (март 1985): 6-30.
Пауэрс, Ричард. «Глобальная распределенная самозеркальная подземная неврология. Выставка изображений с разделением души ». Новости японской книги 48 (лето 2006 г.): 2–14.
.