Архитектор алексей комов: Алексей Комов — архитектор. Биография, портфолио, фото реализованных объектов.
главный архитектор Калуги Алексей Комов — designchat.com
Тема урбанистики сейчас очень на слуху – постоянно возникают дебаты о реновации, «человейниках», сохранении и разрушении наследия. И контекст этих дебатов обычно негативный – делается всё не то и не так. С какими-то печалями я согласна, какие-то вызывают у меня недоумение: я не отрицаю, что проблемы есть, но как можно видеть только их и не замечать ничего позитивного? Иногда мне, видящей много позитивного, кажется, что я живу в какой-то другой стране – не там, где все критики. Но я знаю, что дело не только во мне – потому что есть ещё по крайней мере один человек в нашей профессии, который живёт в той же стране, где и я. Человек, который видит проблемы и ищет решения. Человек, который действует. Находит компромиссы, убеждает партнёров и соперников. Человек, который добивается результатов. Этот человек – главный архитектор Калуги Алексей Комов. И сегодня я представляю вам его интервью.
Когда я вижу картинки того, что вы делаете в Калуге, они поражают тем, как там всё у нас правильно получается. Точечный урбанизм, меняющий среду – само собой. Но главное ощущение – баланса между новым и старым. Отношения между теми, кто ностальгирует по прошлому и теми, кто жаждет развития, раскалывают общество – и экономически, и эстетически. Но у вас в Калуге реализуется – по моим ощущениям – золотая середина. То, что вы делаете, выглядит хорошо и люди довольны. Насколько это правда так? И какая у этой позитивной картины оборотная сторона?
Точечный урбанизм, меняющий среду – само собой. Но главное ощущение – баланса между новым и старым. Отношения между теми, кто ностальгирует по прошлому и теми, кто жаждет развития, раскалывают общество – и экономически, и эстетически. Но у вас в Калуге реализуется – по моим ощущениям – золотая середина. То, что вы делаете, выглядит хорошо и люди довольны. Насколько это правда так? И какая у этой позитивной картины оборотная сторона?
Калуга – Калугой, но мне этот метод работы с городом, отточенный на живых людях, знаком ещё с Крыма. В своё время я стал первым главным архитектором муниципалитета в присоединённом Крыму. Я вообще был первым российским архитектором, ставшим в Республике Крым чиновником. Это была Евпатория. И там не было времени думать о высокой урбанистике – курортный город надо было готовить к сезону. К тому времени там была полностью обрушена большая экономика, после развала Советского Союза не работало ни одно большое предприятие – а меж тем в советское время на курортную составляющую экономики приходилось только 25%, остальное была серьёзная промышленность. В советское время в стотысячном городе жили отнюдь не одни только санаторные нянечки и физруки. А потом всё разом рухнуло после распада СССР, и люди начали выживать: зарабатывать и жить только курортным сезоном. И вот эти люди, мелкие лавочники торгующие в киосках и павильонах – суть, тело экономики древнего города сегодня. И задачей моей было упаковать их жизнь в какую-то разумную систему. Всех этих пляжных торговцев, ремесленников и экскурсоводов. И люди эти не всегда готовы мыслить коллективными интересами, они конкурируют и часто думают только о себе. Два года я бился с тем, чтобы структурировать эту ситуацию, сделать её цивилизованной – чтобы она начала работать сама на себя.
В советское время в стотысячном городе жили отнюдь не одни только санаторные нянечки и физруки. А потом всё разом рухнуло после распада СССР, и люди начали выживать: зарабатывать и жить только курортным сезоном. И вот эти люди, мелкие лавочники торгующие в киосках и павильонах – суть, тело экономики древнего города сегодня. И задачей моей было упаковать их жизнь в какую-то разумную систему. Всех этих пляжных торговцев, ремесленников и экскурсоводов. И люди эти не всегда готовы мыслить коллективными интересами, они конкурируют и часто думают только о себе. Два года я бился с тем, чтобы структурировать эту ситуацию, сделать её цивилизованной – чтобы она начала работать сама на себя.
Городской знак в Евпатории.
Уличные киоски в Евпатории.
Элементы оформления «Большой Севастопольской тропы» в Крыму.
Путём установки киосков и экскурсионных модулей?
Да. При этом особых производств не было, держали пилу люди с трудом, материалов тоже не было – отлично помню, как украинцы пытались поставлять через закрытый кордон какой-то чернобыльский горбыль, совершенно некондиционный. Пришлось через Вологду людей выписывать, чтобы как-то начать. Но потом уже началось производство, люди увидели, что получается, и стали сами учиться, поверили не только мне, но сами в себя. Такая микроэкономика стала возникать. И для меня это было очень круто – видеть результат. Я не люблю ждать, как кабинетный градостроитель – вот, через 20 лет будет чудо, пролягут проспекты и так далее. Я сын скульптора (знаменитого российского мастера Олега Комова – прим. редактора), я привык, что результат труда проявляется наглядно. Отец работал над памятниками год, ну два.
Пришлось через Вологду людей выписывать, чтобы как-то начать. Но потом уже началось производство, люди увидели, что получается, и стали сами учиться, поверили не только мне, но сами в себя. Такая микроэкономика стала возникать. И для меня это было очень круто – видеть результат. Я не люблю ждать, как кабинетный градостроитель – вот, через 20 лет будет чудо, пролягут проспекты и так далее. Я сын скульптора (знаменитого российского мастера Олега Комова – прим. редактора), я привык, что результат труда проявляется наглядно. Отец работал над памятниками год, ну два.
И тут получалось так же – я «лепил» действительность, прямо сейчас. Я вообще не люблю чрезмерно «длинные» проекты – когда работал в архитектурном бюро АМ, были объекты, которые тянулись лет по семь. Они начинают порой морально устаревать, а у тебя пропадает творческая мотивация. Но «быстрая победа», быстрый результат, который меняет жизнь людей – это то, чего я добивался потом и в Севастополе, и в Тутаеве, и в разных моногородах, куда меня приглашали. Только такой метод работы с конкретикой и живым моментом. И людей это убеждает.
Только такой метод работы с конкретикой и живым моментом. И людей это убеждает.
«Беседка Хармса» в Краеведческом музее города Хвалынска.
Качели на реконструированном сквере перед Горуправой на улице Ленина с граффити памяти учёного Александра Чижевского, Калуга.
Павильон в микрорайоне «Анненки», Калуга.
Городская скамья в Калуге – элемент оформления города к 650-летию.
Вы сын великого скульптора, как архитектор начинали с домов и интерьеров – вы «объёмщик», что называется. Откуда вообще интерес к градостроительству? Для него же требуется особый склад ума с лёгкой манией величия.
Тогда уж, одновременно и объёмщик, и интерьерщик. И для меня интерьер города это его архитектурный облик здесь и сейчас. Но вообще-то я закончил МАРХИ на факультете градостроительства. Учился у Бориса Ерёмина. Диплом, правда, делал уже у Ильи Лежавы, поскольку Борис Константинович скоропостижно скончался. Это был 1998 год, первый выпуск магистратуры МАРХИ. Дипломы должны были быть собраны в огромный пазл, все части дополняли друг друга. Рецензентом на защите у меня был знаменитый «бумажник» Александр Зосимов. Так, вот градостроительство у меня в образовании и в крови – Ерёмин сманил меня с ЖОСа, самого мажорского и престижного факультета ещё в конце 4 курса (факультет «Жилых и общественных сооружений» – прим. редактора). Но для меня город – не то же самое, что для большинства «градовцев», не просто квадратики на плане. Для меня город объёмен, реален даже в своей утопии, и диплом мой так и был сделан. Ерёмин подарил мне вот это ощущение того, что всё возможно – нужно просто брать и делать. Как в «Андрее Рублёве» сюжет про колокол – нет никакого секрета, просто взять и сделать, а не сопли жевать.
Рецензентом на защите у меня был знаменитый «бумажник» Александр Зосимов. Так, вот градостроительство у меня в образовании и в крови – Ерёмин сманил меня с ЖОСа, самого мажорского и престижного факультета ещё в конце 4 курса (факультет «Жилых и общественных сооружений» – прим. редактора). Но для меня город – не то же самое, что для большинства «градовцев», не просто квадратики на плане. Для меня город объёмен, реален даже в своей утопии, и диплом мой так и был сделан. Ерёмин подарил мне вот это ощущение того, что всё возможно – нужно просто брать и делать. Как в «Андрее Рублёве» сюжет про колокол – нет никакого секрета, просто взять и сделать, а не сопли жевать.
Беседка-звезда в сквере имени героя войны Михаила Краснопивцева в Калуге. Сквер реконструирован к празднованию 65-летия Победы в 2020-м.
Сквер имени героя войны Михаила Краснопивцева в Калуге.
Сквер имени героя войны Михаила Краснопивцева в Калуге. Скульптор Денис Стретович, архитектор Алексей Комов.
Сквер имени героя войны Михаила Краснопивцева в Калуге. Проект.
Проект.
Что такое вообще работа главного архитектора – насколько этот человек реально влияет на город?
История с главными архитекторами городов у нас до сих пор мучительно не сформулирована. Зачастую это просто нормативный шарнир в административном механизме, который «над» городом, откуда-то из космоса в пиджаке на него смотрит и не вникает в земные детали. Мне так не интересно. Я понимаю что такое генплан и территориальное планирование, но для того, чтобы генплан работал, людям на месте нужны разные проектные… такты. Архитектурные процессы в городе должны идти с разным тактом, чтобы люди всегда видели: что-то меняется в лучшую сторону, происходит и приносит конкретный наглядный результат. Если всё время им говорить, что «через 5–10 лет у вас будут стадионы и космодромы, вы просто потерпите», то народ терпеть не будет. Он всё равно будет жить, конечно, но он не будет ценить то, что есть, то что строится – оно не его. Это самое неприятное, когда город сирота, при живых горожанах.
Сквер в микрорайоне «Солнечный», Калуга.
Мемалиал «Павшим героям–освободителям Калуги» в Бору. Скульптор Денис Стретович, архитектор Алексей Комов.
Благоустройство Пуховского пруда. Из материалов презентационного буклета «От события к пространству. Калужский опыт 2019–2021».
Похоже на эквалайзер на музыкальном центре – здесь пониже, здесь повыше.
Да, такой проектный эквалайзер. Безусловно, одними только тактическими точечными вмешательствами не вытянуть город, и для этого безусловно должна быть команда. Причём команда не только лично моя, не только мои подчинённые, а все люди, с которыми происходят взаимодействия на благо города. В Калуге у нас полное доверие с моим руководством, с городским головой Дмитрием Александровичем Денисовым, и я это очень ценю.
Минстрой сейчас пытается увязать градостроительные процессы в одну жёсткую линию. Но важно чувствовать страну, понимать изнутри, что наши регионы все разные и города все разные.
Вот я как раз об этом хотела спросить. Внутренняя необходимость с одной стороны свободы, с другой стороны – быстрого результата, и с третьей – склонность к гибким решениям. Такое реализуемо, видимо, только в малых городах?
Внутренняя необходимость с одной стороны свободы, с другой стороны – быстрого результата, и с третьей – склонность к гибким решениям. Такое реализуемо, видимо, только в малых городах?
По разному. Я работал в городах, где ёмкость отличается в разы: Калуга – 300–350 тыс. человек, Евпатория – 110 тыс. человек. Тутаев – 35 тыс. человек. Чем город больше, тем у него больше ресурс и «плечо», чтобы что-то делать.
Но при этом и больше и зарегулированность?
Она конечно тоже больше, да. Но здесь крайне важна устойчивая преемственность городской политики. В Евпатории по сравнению с тем временем, когда я там был, сейчас уже упадок. Пришли «новые старые люди», которые не понимают в курортном городском хозяйстве, которые южный город сразу уделали железными чёрными палатками на раскаленном солнце. Народ стонет, вспоминает как всё было неплохо всего пару лет назад после воссоединения.
Понимаете, очень просто всё уронить. Если нет преемственности, нет понимания, страха нет, то всё быстро приходит к стагнации и борьбе кланов. Работа в Крыму и Севастополе мне дала большой «фронтовой» опыт: я знаю как бывает, когда совсем непросто, когда вообще ничего нет под рукой. Обстановка, как у архитекторов авангарда, как у Татлина 1918 году, когда он свою башню III Интернационала придумывал в холодном Петрограде времён военного коммунизма. Попав тогда в Крым, я попал как раз в эпоху авангарда. Драйв мощнейший, ресурсов нет, но надо держаться и делать дело. Ну это ощущение исторического момента с одной стороны сжигает, а с другой стимулирует. Повторюсь, фронтовой опыт. Поэтому, когда меня пригласили в Калугу, договорились, что я должен быть заместителем мэра, у меня должна быть структура. И когда я приехал, то просто поразился после Крыма. На что жаловаться? Если бы у меня были такие, даже просто бытовые возможности, я бы, наверное, из Крыма и не уезжал.
Работа в Крыму и Севастополе мне дала большой «фронтовой» опыт: я знаю как бывает, когда совсем непросто, когда вообще ничего нет под рукой. Обстановка, как у архитекторов авангарда, как у Татлина 1918 году, когда он свою башню III Интернационала придумывал в холодном Петрограде времён военного коммунизма. Попав тогда в Крым, я попал как раз в эпоху авангарда. Драйв мощнейший, ресурсов нет, но надо держаться и делать дело. Ну это ощущение исторического момента с одной стороны сжигает, а с другой стимулирует. Повторюсь, фронтовой опыт. Поэтому, когда меня пригласили в Калугу, договорились, что я должен быть заместителем мэра, у меня должна быть структура. И когда я приехал, то просто поразился после Крыма. На что жаловаться? Если бы у меня были такие, даже просто бытовые возможности, я бы, наверное, из Крыма и не уезжал.
Типовые колористические решения фасадов многоквартирных домов. Из материалов презентационного буклета «От события к пространству. Калужский опыт 2019–2021».
Согласованные колористические паспорта фасадов многоквартирных домов. Из материалов презентационного буклета «От события к пространству. Калужский опыт 2019–2021».
Из материалов презентационного буклета «От события к пространству. Калужский опыт 2019–2021».
Реализованные согласно колористическим паспортам объекты. Из материалов презентационного буклета «От события к пространству. Калужский опыт 2019–2021».
Я правильно понимаю, что на практическом уровне работа финансируется частично бюджетом, но частично местным бизнесом, которому это нужно, да?
Да, конечно. Развиваются области сервисов, торговли, досуга, культуры.
То, что декларировали братья Асадовы ещё в 2014 году – идея «от событий к пространству», всё это на самом деле и происходит. Событие должно оставлять за собой не просто конфетти на асфальте. Должна считываться память. Фотографии, сделанные либо на фоне праздников, либо на фоне актуального архитектурного контекста и оставшиеся в семейных альбомах, несут в себе много смысла – в них остается память о времени, о стиле времени, о его сущности. И наша задача блюсти этот стиль, этот момент, эту сущность. В этом Истина для меня, моя личная.
В этом Истина для меня, моя личная.
А что там происходит в Калуге с жильём? Развитие города, новое планирование, борьба с застройщиками?
У города счастливая судьба, потому что есть Правый Берег. Левый Берег – исторический, а на Правый как раз пущены основные застройщики. Там их было достаточно, и вырос новый город с застройкой этажей 20 максимум. Исторический центр Калуги мне очень дорог – он выглядит как та Москва, которой больше нет в Москве. Москва моего детства, когда я с отцом гулял по центру, он брал меня к своим друзьям в мастерские, рассказывал мне про разные стили, эпохи, личности. В Калуге я вижу «ту» Москву и чувствую себя здесь больше истинным москвичом, чем в столице. И это даëт силы и нужную «архитектурную оптику» видеть главное.
Калуга развивается. Она не город-миллионник, но она близка к Москве, всего 2,5 часа. Калужская область, она имеет прогрессивный имидж с точки зрения инвестиций: завод Volkswagen, Volvo, Bosco и другие известные производства. Это стало возможно, потому что была стабильная власть, один губернатор, выдающийся Анатолий Дмитриевич Артамонов, он там был на посту четверть века. Сейчас он сенатор, а губернатор Владислав Валерьевич Шапша опять же – не присланный, а местный, тоже важно. К вопросу об устойчивой преемственности.
Это стало возможно, потому что была стабильная власть, один губернатор, выдающийся Анатолий Дмитриевич Артамонов, он там был на посту четверть века. Сейчас он сенатор, а губернатор Владислав Валерьевич Шапша опять же – не присланный, а местный, тоже важно. К вопросу об устойчивой преемственности.
В сравнении с другими местами и городами звучит классно. Но сохранится ли баланс, если город будет расти?
В первую очередь качественный рост возможен за счëт неразвитых, заброшенных территорий, в том числе бывших промышленных вдоль Оки. Есть разные сценарии. И в истории город через них проходил уже. Меня вдохновляет опыт конца XVIII века, когда при Петре Романовиче Никитине за 5 лет из мшистого древнерусского поселения был сделан современный имперский город. А тогда даже механизмов особых строительных не было – но получились мосты и акведуки, были засыпаны овраги и сделана регулярная планировка. Собор Парижской Богоматери несколько веков строился, а тут рывок практически в пять лет. Я говорю, что это такой же наш авангард, но конца XVIII века: архитектура, сделанная в сложной и динамичной обстановке, как и авангард 1920-х. Так вот, Никитин был инновационным очень архитектором, из школы Ухтомского. Но, в отличие от Казакова, например, он как-то забыт. Его личность абсолютно не раскрыта. В Калуге даже доски мемориальной не было. Но мы сделали в прошлом году и доску, и памятник. В Калуге очень много качественного культурного наследия, исторический центр сохранился, там нет хамских высотных зданий.
Я говорю, что это такой же наш авангард, но конца XVIII века: архитектура, сделанная в сложной и динамичной обстановке, как и авангард 1920-х. Так вот, Никитин был инновационным очень архитектором, из школы Ухтомского. Но, в отличие от Казакова, например, он как-то забыт. Его личность абсолютно не раскрыта. В Калуге даже доски мемориальной не было. Но мы сделали в прошлом году и доску, и памятник. В Калуге очень много качественного культурного наследия, исторический центр сохранился, там нет хамских высотных зданий.
Мемориальный знак и доска памяти архитектора Петра Никитина, по чьему плану Калуга застраивалась в XVIII веке. Из материалов презентационного буклета «От события к пространству. Калужский опыт 2019–2021».
Вот почему? Вот как так получилось?
Есть несколько гипотез. Первая – потому что здесь были люди особые, второе – то, что в советское время Калуга была не совсем открытым городом, потому что здесь единственный в стране филиал Бауманского института и закрытые предприятия.
Во время войны существенные разрушения тоже минули. И зубодробительных пафосных проектов в центре не было реализовано в советское время.
Лаконично встал тогда центр власти, «Белый дом», как его называют, где сейчас губернатор находится и региональные власти. Площадь центральная организовалась напротив Гостиных рядов, и всё к месту. Наш исторический центр это наша главная ценность, наряду с космосом.
Проект развития новой территории Музея космонавтики. Строительство второй очереди музея завершено в 2021 году.
Павильоны на территории Музея космонавтики.
Проект развития новой территории Музея космонавтики. Строительство второй очереди музея завершено в 2021 году.
Как же все-таки балансировать развитие города и сохранение наследия? Невозможно строить, вообще ничего не разрушая.
Картина моей «малой родины» в Москве за мою жизнь менялась раз десять. «Моя» Москва, где тридцать лет назад ещё деревянные дома были, изменилась. Но в Калуге исторический центр содержит в себе какой-то ген сопротивления. Даже те внедрения, что есть, они не столь разрушительные. Наследие это же не только сам дом, это структура города, сетка улиц. На мой взгляд, важно заниматься именно регенерацией. Нужно чувствовать масштаб города, его пропорции. Деревянные дома горят, разрушаются, это неизбежно. Но мы думаем в будущем свезти вместе оставшиеся ценные деревянные объекты и сделать из них музейную «деревянную улицу», а на тех участках, которые освободятся, отстраивать хорошую архитектуру, сохраняя традиционные морфотипы.
Даже те внедрения, что есть, они не столь разрушительные. Наследие это же не только сам дом, это структура города, сетка улиц. На мой взгляд, важно заниматься именно регенерацией. Нужно чувствовать масштаб города, его пропорции. Деревянные дома горят, разрушаются, это неизбежно. Но мы думаем в будущем свезти вместе оставшиеся ценные деревянные объекты и сделать из них музейную «деревянную улицу», а на тех участках, которые освободятся, отстраивать хорошую архитектуру, сохраняя традиционные морфотипы.
Проект Дворца спорта «Центральный». Из материалов презентационного буклета «От события к пространству. Калужский опыт 2019–2021».
Проект благоустройства Можайского оврага. Из материалов презентационного буклета «От события к пространству. Калужский опыт 2019–2021».
Проект благоустройства набережной Яченского водохранилища. Из материалов презентационного буклета «От события к пространству. Калужский опыт 2019–2021».
Не боитесь, что такое решение тоже наверное вызовет протесты?
Темы охраны природы и исторического наследия – очень токсичные, там огромное поле для манипулирования. Это серьёзные рычаги давления. Темы вызывают эмоциональный отклик, инстинктивное желание вмешаться. И ностальгические настроения многие используют в корыстных целях, в политических. У нас был вот опыт с панно 1972 года Владимира Животкова на улице Пушкина – мы его оцифровали и восстановили по новой технологии. Оно не было объектом культурного наследия, в руинированном состоянии. Упал бы кусок на кого-то – зачистили бы всё мгновенно. В юридическом поле это была просто аварийная стена, ограждающая конструкция, требующая ремонта. Но это знаковое панно, и мы хотели его восстановить. Связался с сыном художника, всё согласовали, и сделали. Горожане радостно встретили это событие. Но сколько же на меня помоев вылили тогда сторонние градозащитники!
Это серьёзные рычаги давления. Темы вызывают эмоциональный отклик, инстинктивное желание вмешаться. И ностальгические настроения многие используют в корыстных целях, в политических. У нас был вот опыт с панно 1972 года Владимира Животкова на улице Пушкина – мы его оцифровали и восстановили по новой технологии. Оно не было объектом культурного наследия, в руинированном состоянии. Упал бы кусок на кого-то – зачистили бы всё мгновенно. В юридическом поле это была просто аварийная стена, ограждающая конструкция, требующая ремонта. Но это знаковое панно, и мы хотели его восстановить. Связался с сыном художника, всё согласовали, и сделали. Горожане радостно встретили это событие. Но сколько же на меня помоев вылили тогда сторонние градозащитники!
Схема восстановления панно Владимира Животкова «Защитникам Отечества» (1972) на улице Пушкина в Калуге.
Реконструированный сквер перед Горуправой на улице Ленина с граффити памяти ученого Александра Чижевского, Калуга.
Проект общественных пространств вокруг кинотеатра «Центральный». Из материалов презентационного буклета «От события к пространству. Калужский опыт 2019–2021».
Из материалов презентационного буклета «От события к пространству. Калужский опыт 2019–2021».
А за что? Это же чистая ситуация восстановления.
Мне было предъявлено, что нужно было всё делать исключительно в одной технологии, что нужно было найти не важно как и откуда ещё больше денег и так далее. Но лишних денег просто нет, а согласно экспертизе на 90% панно не подлежало восстановлению и повторюсь, падало на головы. И время катастрофически таяло. Оно могло обрушиться во время самих работ. Поэтому мы взяли ответственность на себя – смогли и сделали. И я думаю, что это перспективная технология для сохранения неспасаемого советского монументального искусства, которое по ряду причин не является объектом культурного наследия.
Очевидно, что вам нравится стиль советских 1960-х – наш «совмод», наше ретро. Красивые шрифты, архитектура, наш вариант mid century modern. Я правильно понимаю, что в Калуге не просто восстанавливаются, например, исторические вывески, но и новые объекты в такой же стилистике разрабатываются?
У Калуги есть одно обстоятельство, которое отличает её от других губернских и уездных городов XVIII века с классическими центрами – от Рязани, Торжка, Серпухова и т. п. В Калуге провёл свои последние годы Циолковский, и тут есть Музей космонавтики. Это дало Калуге особое положение. В 1957 году по инициативе Королёва было декларировано не просто создание филиала дома-музея Циолковского, но именно первого в мире Музея космонавтики. Дворца космоса, как он говорил. Был архитектурный конкурс, музей открыли в 1967-м. И образ Калуги как «колыбели космонавтики» выдернул за волосы город из пасторального контекста. Калуга – город инженеров, учёных, которые кстати вот сейчас своими деньгами, ресурсами участвуют в восстановлении памятников и организуют городскую жизнь. Они невероятные вещи разрабатывают. Это драйвовое инженерное начало очень цепляет. Глядя на них, я понимаю, что у нас именно тогда, в 1960-х была цельная, напитанная стилем картина будущего и мы его наследники по праву.
п. В Калуге провёл свои последние годы Циолковский, и тут есть Музей космонавтики. Это дало Калуге особое положение. В 1957 году по инициативе Королёва было декларировано не просто создание филиала дома-музея Циолковского, но именно первого в мире Музея космонавтики. Дворца космоса, как он говорил. Был архитектурный конкурс, музей открыли в 1967-м. И образ Калуги как «колыбели космонавтики» выдернул за волосы город из пасторального контекста. Калуга – город инженеров, учёных, которые кстати вот сейчас своими деньгами, ресурсами участвуют в восстановлении памятников и организуют городскую жизнь. Они невероятные вещи разрабатывают. Это драйвовое инженерное начало очень цепляет. Глядя на них, я понимаю, что у нас именно тогда, в 1960-х была цельная, напитанная стилем картина будущего и мы его наследники по праву.
Музей космонавтики в Калуге.
Музей космонавтики в Калуге. Памятный знак «Калуга космическая».
Музей космонавтики в Калуге.
Музей космонавтики в Калуге. Фрагмент территории.
Это какой-то идеальный город Стругацких описывается.
Город Стругацких, да. И опять же, возвращаясь к Крыму: я занимался историей советской архитектуры там. Никто не понимает, особенно молодёжь, что такое был Крым для советского человека, насколько любой «парк культуры и отдыха» в любом городе – это «курортное посольство», образ Крыма, идеального места счастливого завтра, в который можно на час зайти и перезагрузиться. И это – тоже стилистика 1960-х, когда Крым стал полновесно всесоюзной здравницей и из Симферополя в Ялту пошли троллейбусы. Образ, эстетика этого Крыма – символ эпохи, это место победившего социализма. И когда меня приглашали в Калугу, для меня было крайне важно, что именно здесь находится шедевр модернизма, первый Музей космонавтики: Космос для меня уравновесил Калугу с Крымом. Крым особое место, и через стиль эпохи я вижу сакральную связь.
Крым, Калуга, Космос – вот почему советские 1960-е такие ëмкие по стилю для меня.
Материалы презентации к празднованию 650-летия Калуги.
Материалы презентации к празднованию 75-летия Победы в Калуге.
Материалы презентации к празднованию 650-летия Калуги.
Материалы презентации к празднованию 75-летия Победы в Калуге.
Материалы презентации к празднованию 650-летия Калуги.
Материалы презентации к празднованию 650-летия Калуги.
Материалы презентации к празднованию 650-летия Калуги.
На дворе 21 век, а самое красивое, с чем мы имеем дело – ретрофутризм. И я с этим согласна, кстати. Но – но: а как же авангард, новаторство?
Мне кажется здесь важен вопрос, что мы вкладываем в понятие авангард сегодня. По большому счету, мы живем в эпоху постправды, когда всё перевернуто с ног на голову. Всякое актуальное искусство постоянно навязывается, как агрессивный мейнстрим. И в такой ситуации заявить, что ты Традиционалист – это и есть Авангард, на самом деле. Но вообще не важно, как называть то, что делаешь – надо просто брать и делать, честно и с любовью, вопреки всему и не смотря ни на что. Как в истории с колоколом в «Андрее Рублёве».
Как в истории с колоколом в «Андрее Рублёве».
Проектные материалы по строительству 2-й очереди Музея космонавтики. Из материалов презентационного буклета «От события к пространству. Калужский опыт 2019–2021».
Проектные материалы по строительству 2-й очереди Музея космонавтики. Из материалов презентационного буклета «От события к пространству. Калужский опыт 2019–2021».
Рабочие фото из Крыма.
Мемориал «Павшим героям-освободителям Калуги» в Бору. Скульптор Денис Стретович, архитектор Алексей Комов.
Проект беседки-звезды в сквере имени Михаила Краснопивцева в Калуге.
Музей космонавтики в Калуге.
Алексей Комов о подходах к развитию города
Алексей Комов – главный архитектор Калуги и куратор грядущего осенью фестиваля «Зодчество». Его подход к развитию города кажется удивительно сбалансированным, оптимистичным и эффективным.
Когда я вижу картинки того, что вы делаете в Калуге, они поражают тем, как там всё у нас правильно получается. Точечный урбанизм, меняющий среду – само собой. Но главное ощущение – баланса между новым и старым. Отношения между теми, кто ностальгирует по прошлому и теми, кто жаждет развития, раскалывают общество – и экономически, и эстетически. Но у вас в Калуге реализуется – по моим ощущениям – золотая середина. То, что вы делаете, выглядит хорошо и люди довольны. Насколько это правда так? И какая у этой позитивной картины оборотная сторона?
Точечный урбанизм, меняющий среду – само собой. Но главное ощущение – баланса между новым и старым. Отношения между теми, кто ностальгирует по прошлому и теми, кто жаждет развития, раскалывают общество – и экономически, и эстетически. Но у вас в Калуге реализуется – по моим ощущениям – золотая середина. То, что вы делаете, выглядит хорошо и люди довольны. Насколько это правда так? И какая у этой позитивной картины оборотная сторона?
Калуга – Калугой, но мне этот метод работы с городом, отточенный на живых людях, знаком ещё с Крыма. В своё время я стал первым главным архитектором муниципалитета в присоединённом Крыму. Я вообще был первым российским архитектором, ставшим в Республике Крым чиновником. Это была Евпатория. И там не было времени думать о высокой урбанистике – курортный город надо было готовить к сезону. К тому времени там была полностью обрушена большая экономика, после развала Советского Союза не работало ни одно большое предприятие – а меж тем в советское время на курортную составляющую экономики приходилось только 25%, остальное была серьёзная промышленность.
Путём установки киосков и экскурсионных модулей?
Да. При этом особых производств не было, держали пилу люди с трудом, материалов тоже не было – отлично помню, как украинцы пытались поставлять через закрытый кордон какой-то чернобыльский горбыль, совершенно некондиционный. Пришлось через Вологду людей выписывать, чтобы как-то начать. Но потом уже началось производство, люди увидели, что получается, и стали сами учиться, поверили не только мне, но сами в себя. Такая микроэкономика стала возникать. И для меня это было очень круто – видеть результат. Я не люблю ждать, как кабинетный градостроитель – вот, через 20 лет будет чудо, пролягут проспекты и так далее. Я сын скульптора (знаменитого российского мастера Олега Комова), я привык, что результат труда проявляется наглядно. Отец работал над памятниками год, ну два.
Пришлось через Вологду людей выписывать, чтобы как-то начать. Но потом уже началось производство, люди увидели, что получается, и стали сами учиться, поверили не только мне, но сами в себя. Такая микроэкономика стала возникать. И для меня это было очень круто – видеть результат. Я не люблю ждать, как кабинетный градостроитель – вот, через 20 лет будет чудо, пролягут проспекты и так далее. Я сын скульптора (знаменитого российского мастера Олега Комова), я привык, что результат труда проявляется наглядно. Отец работал над памятниками год, ну два.
 Только такой метод работы с конкретикой и живым моментом. И людей это убеждает.
Только такой метод работы с конкретикой и живым моментом. И людей это убеждает.
Вы сын великого скульптора, как архитектор начинали с домов и интерьеров – вы «объёмщик», что называется. Откуда вообще интерес к градостроительству? Для него же требуется особый склад ума с лёгкой манией величия.
Тогда уж, одновременно и объёмщик, и интерьерщик. И для меня интерьер города это его архитектурный облик здесь и сейчас. Но вообще-то я закончил МАРХИ на факультете градостроительства. Учился у Бориса Ерёмина. Диплом, правда, делал уже у Ильи Лежавы, поскольку Борис Константинович скоропостижно скончался. Это был 1998 год, первый выпуск магистратуры МАРХИ. Дипломы должны были быть собраны в огромный пазл, все части дополняли друг друга. Рецензентом на защите у меня был знаменитый «бумажник» Александр Зосимов. Так, вот градостроительство у меня в образовании и в крови – Ерёмин сманил меня с ЖОСа, самого мажорского и престижного факультета ещё в конце 4 курса.
Что такое вообще работа главного архитектора – насколько этот человек реально влияет на город?
История с главными архитекторами городов у нас до сих пор мучительно не сформулирована. Зачастую это просто нормативный шарнир в административном механизме, который «над» городом, откуда-то из космоса в пиджаке на него смотрит и не вникает в земные детали. Мне так не интересно. Я понимаю, что такое генплан и территориальное планирование, но для того, чтобы генплан работал, людям на месте нужны разные проектные… такты. Архитектурные процессы в городе должны идти с разным тактом, чтобы люди всегда видели: что-то меняется в лучшую сторону, происходит и приносит конкретный, наглядный результат.
Похоже на эквалайзер на музыкальном центре – здесь пониже, здесь повыше.
Да, такой проектный эквалайзер. Безусловно, одними только тактическими точечными вмешательствами не вытянуть город, и для этого, безусловно, должна быть команда. Причём команда не только лично моя, не только мои подчинённые, а все люди, с которыми происходят взаимодействия на благо города. В Калуге у нас полное доверие с моим руководством, с городским головой Дмитрием Александровичем Денисовым, и я это очень ценю.

Вот я как раз об этом хотела спросить. Внутренняя необходимость с одной стороны свободы, с другой стороны – быстрого результата, и с третьей – склонность к гибким решениям. Такое реализуемо, видимо, только в малых городах?
По-разному. Я работал в городах, где ёмкость отличается в разы: Калуга – 300–350 тыс. человек, Евпатория – 110 тыс. человек. Тутаев – 35 тыс. человек. Чем город больше, тем у него больше ресурс и «плечо», чтобы что-то делать.
Но при этом и больше и зарегулированность?
Она конечно тоже больше, да. Но здесь крайне важна устойчивая преемственность городской политики. В Евпатории по сравнению с тем временем, когда я там был, сейчас уже упадок. Пришли «новые старые люди», которые не понимают в курортном городском хозяйстве, которые южный город сразу уделали железными чёрными палатками на раскаленном солнце. Народ стонет, вспоминает, как всё было неплохо всего пару лет назад после воссоединения.
Понимаете, очень просто всё уронить. Если нет преемственности, нет понимания, страха нет, то всё быстро приходит к стагнации и борьбе кланов. Работа в Крыму и Севастополе мне дала большой «фронтовой» опыт: я знаю, как бывает, когда совсем непросто, когда вообще ничего нет под рукой. Обстановка, как у архитекторов авангарда, как у Татлина 1918 году, когда он свою башню III Интернационала придумывал в холодном Петрограде времён военного коммунизма. Попав тогда в Крым, я попал как раз в эпоху авангарда. Драйв мощнейший, ресурсов нет, но надо держаться и делать дело. Ну, это ощущение исторического момента с одной стороны сжигает, а с другой стимулирует. Повторюсь, фронтовой опыт. Поэтому, когда меня пригласили в Калугу, договорились, что я должен быть заместителем мэра, у меня должна быть структура. И когда я приехал, то просто поразился после Крыма. На что жаловаться? Если бы у меня были такие, даже просто бытовые возможности, я бы, наверное, из Крыма и не уезжал.
Я правильно понимаю, что на практическом уровне работа финансируется частично бюджетом, но частично местным бизнесом, которому это нужно, да?
Да, конечно. Развиваются области сервисов, торговли, досуга, культуры.
Развиваются области сервисов, торговли, досуга, культуры.
То, что декларировали братья Асадовы ещё в 2014 году – идея «от событий к пространству», всё это на самом деле и происходит. Событие должно оставлять за собой не просто конфетти на асфальте. Должна считываться память. Фотографии, сделанные либо на фоне праздников, либо на фоне актуального архитектурного контекста и оставшиеся в семейных альбомах, несут в себе много смысла – в них остается память о времени, о стиле времени, о его сущности. И наша задача блюсти этот стиль, этот момент, эту сущность. В этом Истина для меня, моя личная.
А что там происходит в Калуге с жильём? Развитие города, новое планирование, борьба с застройщиками?
У города счастливая судьба, потому что есть Правый Берег. Левый Берег – исторический, а на Правый как раз пущены основные застройщики. Там их было достаточно, и вырос новый город с застройкой этажей 20 максимум. Исторический центр Калуги мне очень дорог – он выглядит как та Москва, которой больше нет в Москве.
Калуга развивается. Она не город-миллионник, но она близка к Москве, всего 2,5 часа. Калужская область, она имеет прогрессивный имидж с точки зрения инвестиций: завод Volkswagen, Volvo, Bosco и другие известные производства. Это стало возможно, потому что была стабильная власть, один губернатор, выдающийся Анатолий Дмитриевич Артамонов, он там был на посту четверть века. Сейчас он сенатор, а губернатор Владислав Валерьевич Шапша опять же – не присланный, а местный, тоже важно. К вопросу об устойчивой преемственности.
В сравнении с другими местами и городами звучит классно. Но сохранится ли баланс, если город будет расти?
В первую очередь качественный рост возможен за счëт неразвитых, заброшенных территорий, в том числе бывших промышленных вдоль Оки. Есть разные сценарии. И в истории город через них проходил уже. Меня вдохновляет опыт конца XVIII века, когда при Петре Романовиче Никитине за 5 лет из мшистого древнерусского поселения был сделан современный имперский город. А тогда даже механизмов особых строительных не было – но получились мосты и акведуки, были засыпаны овраги и сделана регулярная планировка. Собор Парижской Богоматери несколько веков строился, а тут рывок практически в пять лет. Я говорю, что это такой же наш авангард, но конца XVIII века: архитектура, сделанная в сложной и динамичной обстановке, как и авангард 1920-х. Так вот, Никитин был инновационным очень архитектором, из школы Ухтомского. Но, в отличие от Казакова, например, он как-то забыт. Его личность абсолютно не раскрыта. В Калуге даже доски мемориальной не было. Но мы сделали в прошлом году и доску, и памятник. В Калуге очень много качественного культурного наследия, исторический центр сохранился, там нет хамских высотных зданий.
Есть разные сценарии. И в истории город через них проходил уже. Меня вдохновляет опыт конца XVIII века, когда при Петре Романовиче Никитине за 5 лет из мшистого древнерусского поселения был сделан современный имперский город. А тогда даже механизмов особых строительных не было – но получились мосты и акведуки, были засыпаны овраги и сделана регулярная планировка. Собор Парижской Богоматери несколько веков строился, а тут рывок практически в пять лет. Я говорю, что это такой же наш авангард, но конца XVIII века: архитектура, сделанная в сложной и динамичной обстановке, как и авангард 1920-х. Так вот, Никитин был инновационным очень архитектором, из школы Ухтомского. Но, в отличие от Казакова, например, он как-то забыт. Его личность абсолютно не раскрыта. В Калуге даже доски мемориальной не было. Но мы сделали в прошлом году и доску, и памятник. В Калуге очень много качественного культурного наследия, исторический центр сохранился, там нет хамских высотных зданий.
Вот почему? Вот как так получилось?
Есть несколько гипотез. Первая – потому что здесь были люди особые, второе – то, что в советское время Калуга была не совсем открытым городом, потому что здесь единственный в стране филиал Бауманского института и закрытые предприятия.
Первая – потому что здесь были люди особые, второе – то, что в советское время Калуга была не совсем открытым городом, потому что здесь единственный в стране филиал Бауманского института и закрытые предприятия.
Во время войны существенные разрушения тоже минули. И зубодробительных пафосных проектов в центре не было реализовано в советское время.
Лаконично встал тогда центр власти, «Белый дом», как его называют, где сейчас губернатор находится и региональные власти. Площадь центральная организовалась напротив Гостиных рядов, и всё к месту. Наш исторический центр это наша главная ценность, наряду с космосом.
Как же все-таки балансировать развитие города и сохранение наследия? Невозможно строить, вообще ничего не разрушая.
Картина моей «малой родины» в Москве за мою жизнь менялась раз десять. «Моя» Москва, где тридцать лет назад ещё деревянные дома были, изменилась. Но в Калуге исторический центр содержит в себе какой-то ген сопротивления. Даже те внедрения, что есть, они не столь разрушительные. Наследие это же не только сам дом, это структура города, сетка улиц. На мой взгляд, важно заниматься именно регенерацией. Нужно чувствовать масштаб города, его пропорции. Деревянные дома горят, разрушаются, это неизбежно. Но мы думаем в будущем свезти вместе оставшиеся ценные деревянные объекты и сделать из них музейную «деревянную улицу», а на тех участках, которые освободятся, отстраивать хорошую архитектуру, сохраняя традиционные морфотипы.
Даже те внедрения, что есть, они не столь разрушительные. Наследие это же не только сам дом, это структура города, сетка улиц. На мой взгляд, важно заниматься именно регенерацией. Нужно чувствовать масштаб города, его пропорции. Деревянные дома горят, разрушаются, это неизбежно. Но мы думаем в будущем свезти вместе оставшиеся ценные деревянные объекты и сделать из них музейную «деревянную улицу», а на тех участках, которые освободятся, отстраивать хорошую архитектуру, сохраняя традиционные морфотипы.
Не боитесь, что такое решение тоже, наверное, вызовет протесты?
Темы охраны природы и исторического наследия – очень токсичные, там огромное поле для манипулирования. Это серьёзные рычаги давления. Темы вызывают эмоциональный отклик, инстинктивное желание вмешаться. И ностальгические настроения многие используют в корыстных целях, в политических. У нас был вот опыт с панно 1972 года Владимира Животкова на улице Пушкина – мы его оцифровали и восстановили по новой технологии. Оно не было объектом культурного наследия, в руинированном состоянии. Упал бы кусок на кого-то – зачистили бы всё мгновенно. В юридическом поле это была просто аварийная стена, ограждающая конструкция, требующая ремонта. Но это знаковое панно, и мы хотели его восстановить. Связался с сыном художника, всё согласовали, и сделали. Горожане радостно встретили это событие. Но сколько же на меня помоев вылили тогда сторонние градозащитники!
Оно не было объектом культурного наследия, в руинированном состоянии. Упал бы кусок на кого-то – зачистили бы всё мгновенно. В юридическом поле это была просто аварийная стена, ограждающая конструкция, требующая ремонта. Но это знаковое панно, и мы хотели его восстановить. Связался с сыном художника, всё согласовали, и сделали. Горожане радостно встретили это событие. Но сколько же на меня помоев вылили тогда сторонние градозащитники!
А за что? Это же чистая ситуация восстановления.
Мне было предъявлено, что нужно было всё делать исключительно в одной технологии, что нужно было найти не важно, как и откуда ещё больше денег и так далее. Но лишних денег просто нет, а согласно экспертизе на 90% панно не подлежало восстановлению и повторюсь, падало на головы. И время катастрофически таяло. Оно могло обрушиться во время самих работ. Поэтому мы взяли ответственность на себя – смогли и сделали. И я думаю, что это перспективная технология для сохранения неспасаемого советского монументального искусства, которое по ряду причин не является объектом культурного наследия.
Очевидно, что вам нравится стиль советских 1960-х – наш «совмод», наше ретро. Красивые шрифты, архитектура, наш вариант mid century modern. Я правильно понимаю, что в Калуге не просто восстанавливаются, например, исторические вывески, но и новые объекты в такой же стилистике разрабатываются?
У Калуги есть одно обстоятельство, которое отличает её от других губернских и уездных городов XVIII века с классическими центрами – от Рязани, Торжка, Серпухова и т.п. В Калуге провёл свои последние годы Циолковский, и тут есть Музей космонавтики. Это дало Калуге особое положение. В 1957 году по инициативе Королёва было декларировано не просто создание филиала дома-музея Циолковского, но именно первого в мире Музея космонавтики. Дворца космоса, как он говорил. Был архитектурный конкурс, музей открыли в 1967-м. И образ Калуги как «колыбели космонавтики» выдернул за волосы город из пасторального контекста. Калуга – город инженеров, учёных, которые, кстати, вот сейчас своими деньгами, ресурсами участвуют в восстановлении памятников и организуют городскую жизнь. Они невероятные вещи разрабатывают. Это драйвовое инженерное начало очень цепляет. Глядя на них, я понимаю, что у нас именно тогда, в 1960-х была цельная, напитанная стилем картина будущего и мы его наследники по праву.
Они невероятные вещи разрабатывают. Это драйвовое инженерное начало очень цепляет. Глядя на них, я понимаю, что у нас именно тогда, в 1960-х была цельная, напитанная стилем картина будущего и мы его наследники по праву.
Это какой-то идеальный город Стругацких описывается.
Город Стругацких, да. И опять же, возвращаясь к Крыму: я занимался историей советской архитектуры там. Никто не понимает, особенно молодёжь, что такое был Крым для советского человека, насколько любой «парк культуры и отдыха» в любом городе – это «курортное посольство», образ Крыма, идеального места счастливого завтра, в который можно на час зайти и перезагрузиться. И это – тоже стилистика 1960-х, когда Крым стал полновесно всесоюзной здравницей и из Симферополя в Ялту пошли троллейбусы. Образ, эстетика этого Крыма – символ эпохи, это место победившего социализма. И когда меня приглашали в Калугу, для меня было крайне важно, что именно здесь находится шедевр модернизма, первый Музей космонавтики: Космос для меня уравновесил Калугу с Крымом. Крым особое место, и через стиль эпохи я вижу сакральную связь.
Крым особое место, и через стиль эпохи я вижу сакральную связь.
Крым, Калуга, Космос – вот почему советские 1960-е такие ëмкие по стилю для меня.
На дворе 21 век, а самое красивое, с чем мы имеем дело – ретрофутризм. И я с этим согласна, кстати. Но – но: а как же авангард, новаторство?
Мне кажется здесь важен вопрос, что мы вкладываем в понятие авангард сегодня. По большому счету, мы живем в эпоху постправды, когда всё перевернуто с ног на голову. Всякое актуальное искусство постоянно навязывается, как агрессивный мейнстрим. И в такой ситуации заявить, что ты Традиционалист – это и есть Авангард, на самом деле. Но вообще не важно, как называть то, что делаешь – надо просто брать и делать, честно и с любовью, вопреки всему и не смотря ни на что. Как в истории с колоколом в «Андрее Рублёве».
По материалам: DesignChat.com
Алексей Комов: главный архитектор в Крыму — экстрим » Строительство.RU
Крым — далеко не только сезонный курорт, как может показаться многим на материке. Здесь живут люди! Жители полуострова, как и жители любого другого региона, нуждаются в удобной инфраструктуре, современном комфорте, разумных градостроительных решениях. Кроме того, Крым обладает уникальной природной и культурной средой, которая остро нуждается в защите.
Здесь живут люди! Жители полуострова, как и жители любого другого региона, нуждаются в удобной инфраструктуре, современном комфорте, разумных градостроительных решениях. Кроме того, Крым обладает уникальной природной и культурной средой, которая остро нуждается в защите.
Вызовы, с которыми сегодня приходится сталкиваться крымским городам, стала темой нашей беседы с бывшим главным архитектором, а ныне советником главы администрации Евпатории, основателем научно-образовательного центра «Урботех» при Севастопольском государственном университете и член правления Союза архитекторов России Алексей Комов.
Назад в будущее
— Алексей, какая планировка унаследована Россией в Крыму?
— Если вы хотите увидеть, кем мы были и кем мы стали, добро пожаловать в Крым. Без всяких обратных билетов. В настоящее время Крым является нашим увеличительным зеркалом. Это клубок проблем постсоветского времени, сжатых в одном месте.
Помните, на восстановление послевоенного Севастополя ушло рекордные пять лет. Крым четыре года находился в составе России. Если сравнивать с «кровавым сталинским режимом», то за год должны быть обновлены города. Однако этого не произойдет. Конечно, все будет сделано, но жаль, что много времени и ресурсов было неоправданно потрачено впустую на старте, когда люди были готовы к решительным действиям со стороны центра.
Крым четыре года находился в составе России. Если сравнивать с «кровавым сталинским режимом», то за год должны быть обновлены города. Однако этого не произойдет. Конечно, все будет сделано, но жаль, что много времени и ресурсов было неоправданно потрачено впустую на старте, когда люди были готовы к решительным действиям со стороны центра.
Судите сами, у крымских городов до сих пор нет генеральных планов! Единственный город, в котором есть градостроительная концепция и где ситуация еще будет корректироваться, — это Симферополь. Остальные города, возможно, только к концу этого года — в авральном режиме — согласуют свои генеральные планы, а где-то и правила землепользования и застройки.
Развитие туристических маршрутов Большой Севастопольской тропы
— В советское время Крым имел развитую экономическую структуру…
— После распада СССР экономика Крыма полностью разрушена. Только в Евпатории, с учетом 70 санаториев, на рекреационно-санаторную составляющую приходится всего 25%, остальное приходится на промышленность. Ведь детская здравница! Речь идет об авиаремонтном заводе и заводе электроники «Вымпел» и т.д. Как вы понимаете, сто тысяч человек были не только медсестрами и инструкторами по физкультуре детских здравниц, но и работниками предприятий.
Ведь детская здравница! Речь идет об авиаремонтном заводе и заводе электроники «Вымпел» и т.д. Как вы понимаете, сто тысяч человек были не только медсестрами и инструкторами по физкультуре детских здравниц, но и работниками предприятий.
В настоящее время промышленность разрушена. Крымская экономика функционирует исключительно сезонно. Крупных частных инвестиций в Крым нет, потому что регион находится под санкциями. Возможных каналов в Крыму всего два: либо микроденьги из копилок, которые люди заработали в сезон с помощью купли-продажи, либо средства федеральных целевых программ, которых нет, так как они идут на реализацию крупных федеральных проекты. Тем более, что их выплата — это большая ответственность, каждая копейка контролируется частым гребнем.
Проблема в том, что в Крыму нет так называемых средних денег, которые можно вкладывать в строительство объектов, в том числе инфраструктуры, «здесь и сейчас». Оперативной денежной массы нет. И в такой ситуации вряд ли мог быть какой-то прорыв.
При просмотре телевизора видишь строящийся Крымский мост, аэропорт Симферополя, федеральную трассу Таврида, все отлично и красиво! Но это федеральные объекты, их строят федеральные власти. Региональное строительство тормозится по многим причинам. В частности, причина в том, что тендеры выигрывают девелоперы, предлагающие дешевые и «выполнимые» работы.
Мега-лавка Евпатория
— А что сегодня строится в крымских регионах? Гостиницы, курорты?
— Будьте здоровы! В первую очередь здесь должны быть переустановлены инженерные сети! Ни о каком строительстве курортной инфраструктуры не может быть и речи, поскольку потери воды в евпаторийском водопроводе составляют более 50%! Видите ли, в Крыму уже много лет капитального ремонта почти не было.
Некоторые крымские города являются настоящей зоной бедствия. В Коктебеле, например, до сих пор нет очистных сооружений и все отходы сбрасываются прямо в море. У нас получился, по сути, полумертвый регион. И оживить его мановением волшебной палочки невозможно. Федеральные власти доверили «лечение» местным элитам, однако зачастую они физически не в состоянии справиться с проблемами.
И оживить его мановением волшебной палочки невозможно. Федеральные власти доверили «лечение» местным элитам, однако зачастую они физически не в состоянии справиться с проблемами.
Малые архитектурные формы в Динопарке Севастополя
— В Севастополе лучше?
— Севастополь с Республикой не сравнить — это другая история, другие проблемы. Там другое правительство, другой губернатор, другой регион. Севастополь — город федерального значения. Город русской славы. Город русской архитектурной славы. После Великой Отечественной войны его восстанавливали лучшие архитекторы сталинской эпохи, учитывая, что во время войны его сровняли с землей. Здания возводились на старых опорах и сетях, поэтому городские морфотипы сохранились.
— Какое архитектурное наследие города?
— Дело в том, что в Севастополе не одно и не несколько зданий, а целый ансамбль. Меня часто спрашивают, как я понимаю крымский стиль? Так вот, крымский стиль для меня наиболее полно реализуется в Севастополе, в городе вообще. Не Ливадийский дворец, не какое-то причудливое здание или деталь, а город, в котором живут люди и который вписывается в сложный ландшафт.
Не Ливадийский дворец, не какое-то причудливое здание или деталь, а город, в котором живут люди и который вписывается в сложный ландшафт.
— Не так ли, в Севастополе решили создать новую образовательную базу для архитекторов?
— Да, мы с молодыми севастопольскими коллегами решили начать с достойного архитектурно-дизайнерского образования, при поддержке ректората Севастопольского государственного университета. Год назад при университете был запущен научно-образовательный центр «Урботех», который, надеюсь, превратится в полноценное образовательное подразделение. Получены лицензии Министерства образования. Академическая деятельность начнется в 2019 году.
В этом году Урботех оказывает помощь городу и университету, занимаясь научной и практической работой. По договору с Департаментом градостроительства Севастополя составили регламенты, разработали архетипы — от пляжей до благоустройства пригорода Севастополя — Балаклавы. Они создавали репутацию Севастопольского университета как центра архитектуры и дизайна. Сегодня мы немного переформатировали структуру, усилив образовательное ядро. Я уже выполнил свою функцию запуска. Я убежден, что мы не должны ни критиковать, ни заигрывать с нашей молодежью, мы просто должны работать с ней!
Сегодня мы немного переформатировали структуру, усилив образовательное ядро. Я уже выполнил свою функцию запуска. Я убежден, что мы не должны ни критиковать, ни заигрывать с нашей молодежью, мы просто должны работать с ней!
Скамейка Крым
Зачем нужна архитектура «прямого действия»?
— Вы сказали, что у большинства крымских городов не было генеральных планов. Так почему же местные администрации не заботятся о поиске средств на это?
— Ну и где деньги? Есть ли они в нищих муниципалитетах? Есть ли они у малого бизнеса? Есть ли они у продавцов трусиков и пирожных? С отнятой у них последней копилкой социальный взрыв гарантирован точно. Смотрите, генеральный план — это наглядное представление бюджетных обязательств муниципалитетов. Это правила траты денег, но как известно: «Нет денег, но ухмыляйся и терпи». Это порочный круг, разорвать который могут только политическая воля и разум.
Несколько лет назад мне пришлось взять на себя роль крымского чиновника, поработав главным архитектором Евпатории. Что я, главный архитектор, мог сделать в условиях нехватки средств? Смотрите, генплана нет, а к сезону город нужно готовить. В сезон люди зарабатывают, чтобы выжить: покупают детям школьную форму, пожилым родителям лекарства, продукты, в конце концов. У них нет другого способа получить эти средства. И задача была, с одной стороны, снести страшные шалмы и палатки, а с другой стороны, предложить что-то новое и настоящее, чтобы не оставлять людей с пустым мешком, без работы и средств к существованию.
Что я, главный архитектор, мог сделать в условиях нехватки средств? Смотрите, генплана нет, а к сезону город нужно готовить. В сезон люди зарабатывают, чтобы выжить: покупают детям школьную форму, пожилым родителям лекарства, продукты, в конце концов. У них нет другого способа получить эти средства. И задача была, с одной стороны, снести страшные шалмы и палатки, а с другой стороны, предложить что-то новое и настоящее, чтобы не оставлять людей с пустым мешком, без работы и средств к существованию.
Евпаторийский культурно-этнографический центр «Малый Иерусалим»
Пока Москва развивается из-за слишком больших денег, это единственное, что можно сделать в Евпатории. Мы приняли правила благоустройства, так как это было единственное, что город мог сделать в отсутствие генерального плана. Вместо шалмов мы разработали различные архетипы торговых павильонов, малых архитектурных форм. Причем изготавливались они в городе, налажено соответствующее производство. Благоустройство пляжей в едином стиле велось и за счет внутренней модернизации.
Для себя я назвал это архитектурой прямого действия, что означает возможность влиять локально, «здесь и сейчас». Быть чиновником в Крыму — это экстремальный вид спорта. Но эта крайность — вынужденная работа, если знать, как и что делать. Сегодня на основе крымского опыта мы сделали учебник для мэров по разным видам «упаковки» городской среды, от сувенирных киосков, летних площадок, пляжей до нестационарных зданий для продажи бахчевых культур и т.д. называется «Горкон» — градостроитель.
Развитие туристических маршрутов «Большой Севастопольской тропы»
Только крупные компании могут позволить себе иметь свой курорт
— Алексей, на ваш взгляд, что влияет на архитектуру курорта — климат, культурные традиции, местные материалы и технологии, инфраструктура? А в чем особенность крымской архитектуры?
— Что отличает Крым от Сочи, так это важность окружающей среды и условий. Здесь настолько тонкие сочетания, в отличие от монументального и брутального природного ландшафта Кавказа, что невозможно просто развернуться и приспособиться к архитектуре Сочи, например, как это было сделано с гостиницей «Ялта Интурист» в 19 веке. 70-е годы. Это, кстати, было первое вторжение сочинского стиля в Крым. «Уронив» туда тот кабинет, без особого пиетета к прекрасной крымской среде, те, кто принимал решение, фактически открыли ящик Пандоры. Сейчас мы пожинаем плоды в виде безнадежно разрушенного морского фасада города.
70-е годы. Это, кстати, было первое вторжение сочинского стиля в Крым. «Уронив» туда тот кабинет, без особого пиетета к прекрасной крымской среде, те, кто принимал решение, фактически открыли ящик Пандоры. Сейчас мы пожинаем плоды в виде безнадежно разрушенного морского фасада города.
Санаторий «Дружба» под Ялтой
Главное в Крыму — природа. И задача архитектора – не нанести ущерб. Почему знаменитая база отдыха «Дружба» архитектора Василевского — так называемая «шестерня» на ноге — была придумана именно так? Чтобы не разрушить окружающий пейзаж, а возвыситься над ним. Это красивое решение было продиктовано знанием и пониманием окружающей среды. Знаете, Крым научил меня смирению. По правде говоря, лучшая архитектура та, которая «незаметна».
Ну а на вопрос, что влияет на архитектуру курорта в целом, это, конечно же, климат и функциональность. Это целая наука, знания о курортной архитектуре! Мы должны это знать, изучать и применять. Например, беседки и шатры на пляже. Если вы не знаете, как движется солнце, вы не спроектируете их должным образом. По науке даже глубина лоджии влияет на дневной сон отдыхающего!
Если вы не знаете, как движется солнце, вы не спроектируете их должным образом. По науке даже глубина лоджии влияет на дневной сон отдыхающего!
Правила благоустройства пляжей Евпатории
— До недавнего времени даже малые предприятия имели свои санатории и санаторно-курортные учреждения. И у архитекторов была работа. Сегодня иметь собственный курорт могут себе позволить только крупные компании. На ваш взгляд, есть ли шанс у специализированного курортного дизайна выжить в условиях отсутствия заказов?
— В советское время существовала система проектных институтов. Все занимались либо вокзалами, либо промышленностью, либо курортами. На полуострове КрымНИИпроект объединил всех, от геологов и исследователей до инженеров и архитекторов. Раньше, учась в архитектурном институте, можно было не заморачиваться о заказах, так как выпускники работали по заданию. Архитектор не должен даже думать об этом и думать о том, как выжить. Архитектору не пришлось бросать крючки и лизать пыль. Сейчас такой системы больше нет.
Сейчас такой системы больше нет.
Когда мы «счастливо» вошли в капитализм, стало общепринятой нормой идти на компромисс с совестью, чтобы просто сохранить семью. Это, конечно, унизило и сломило дух профессионалов. Теперь вместо профессионалов у нас исключительно эффективные менеджеры. На мой взгляд, без возрождения системы архитектурного проектирования любые надежды на прорыв сегодня — пустые мечты.
Реконструкция сквера на набережной Корнилова, г. Севастополь
Почему терапия полезнее подавления
— Не секрет, что в последние годы многие южные города застраиваются стихийно и часто самовольно. Как идет борьба с самовольными застройками в Крыму?
— С одной стороны, все понимают, что бороться надо. Пару лет назад в Севастополе на глазах у публики взорвали многоэтажку. Однако процесс его сноса был проблематичным — здание давно не падало. После этого на участке долгое время оставалось много мусора.
Но смотри, сносить всегда дорого. Собственно, на какие деньги? Должна быть продуманная система, а не понты. Возьмем пример Москвы: В столице за одну ночь снесли все световые конструкции возле станций метро, причем за счет городских средств.
Собственно, на какие деньги? Должна быть продуманная система, а не понты. Возьмем пример Москвы: В столице за одну ночь снесли все световые конструкции возле станций метро, причем за счет городских средств.
Кроме того, следует помнить еще об одном моменте — о взаимной ответственности. В Крыму она особенно сильна: «…я знал его отца, ну как я его снесу?», «…снесу, а он родственник Ивана Иваныча, Зинаида Евгеньевна», и т.д…. Муниципалитеты маленькие, все всех знают, поэтому любой агрессивный шаг воспринимается как личное оскорбление.
Виден и смысл муниципалитетов. Имея «на руку» определенную территорию, где все производства давно ликвидированы и люди озабочены исключительно проблемой сезонного выживания, важно действовать очень осторожно. Для многих их маленькое кафе у моря или временный павильон на оживленной улице – вопрос жизни и смерти. Поэтому я неоднозначно отношусь к развитию скваттеров. Параллельно со взвешенными градостроительными репрессиями должна проводиться социальная терапия.
Малые архитектурные формы, Ялта
Достигнем ли мы курорта мирового уровня?
— Верите ли вы, что в Крыму можно создать современный курорт, сравнимый с зарубежными?
— Да, знаю. Главный крымский ресурс – это сам Крым. Выиграет тот, кто комплексно подойдет к развитию этого региона. В Крыму столько уникальных мест! Нет необходимости класть туда плитку или что-то еще, их просто нужно поддерживать в порядке. А если немного популяризировать историю места — природные маршруты, крымский стиль и т. д., — мы получим ту самую коммерческую составляющую, которая нам нужна.
Курорт мирового уровня теперь не в ведении крымских властей, а в ведении федеральных. Нужна четко сформулированная доктрина. При этом важно иметь в виду, что говорить о качественной архитектуре, глобальном благоустройстве не приходится, пока мы не решим задачу с линейными объектами, сетями водоснабжения, очистными сооружениями, канализацией и т. д.
В настоящее время, к сожалению, мы старайтесь всячески припудривать и приукрашивать больного, вместо того, чтобы лечить его. Отсюда безудержный и зачастую беспощадный бум девелоперской деятельности. А время для настоящей сложной работы ускользает безвозвратно и безнадежно.
Отсюда безудержный и зачастую беспощадный бум девелоперской деятельности. А время для настоящей сложной работы ускользает безвозвратно и безнадежно.
Беседовала Елена Мацейко
Чему «космический коммунист» Архитектор научился у британской архитектуры – нет места без духа
Изображение Санториума Дружба Игоря Василевского Фредрика Шобена на обложке CCCP; Космические коммунистические конструкции Фотографировано, Ташен, 2011Я стоял на сцене незадолго до лекции «Крымская архитектура, между традицией и авангардом» по случаю архитектурного фестиваля «Зодчество-14», когда Алексей Комов, куратор павильона в который был включен один из моих проектов, указал на пожилого мужчину, только что спустившегося по центральной лестнице полукруглой общественной арены:
«Это он: Дружба!» — сказал Алексей с положительно удивленным выражением лица, указывая головой на положение мужчины. Вопреки угловатым проекциям радиально расположенных комнат его здания, позднесоветского санатория Дружба (Дружба) в Крыму, похожего на космическую станцию здания, прославившегося во всем мире благодаря изображению на обложке Ташена «CCCP; Космические коммунистические конструкции сфотографированы», его архитектор казался доступным и мягким по характеру.
Я был одновременно удивлен и взволнован этим неожиданным гостем, но также осознавал, что, поскольку я включил в свою лекцию четыре изображения его знаменитого здания, больше, чем для любого другого здания, кроме моего собственного, я подвергал себя возможности озвучить интерпретацию своей работы, которая может быть оспорена в реальном времени ее архитектором, сидевшим в одном из первых рядов открытого зала. Я упомянул его и его присутствие непосредственно во время проекции этих изображений, дав ему и другим гостям возможность подумать, не прольют ли дальнейшее прямое объяснение и разговор свет на творчество этого мастера советской архитектуры. Этот разговор произошел вскоре после окончания моей лекции. Когда я подошел к Василевскому, чтобы поблагодарить его за участие, он осмелился дать несколько советов мне, лондонскому архитектору, который моложе его более чем на тридцать лет:0004
«Знаете, что важнее природы и архитектуры?» Он спросил.
«Природа важнее, потому что ландшафты, созданные Богом, нельзя улучшить, надстроив их».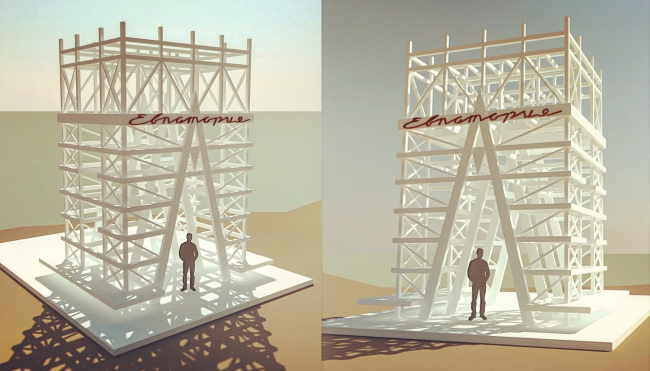 Добавил он.
Добавил он.
Дружба была построена в 1985 году в советской стране, которая с 1917 года пыталась покончить с идеей Бога, заменив ее идеей вождя рабочей революции.
Воронцовский дворец и крымские горы Затем Василевский заговорил о Воронцовском дворце в Алупке, вторя некоторым комментариям, которые я сделал по этому поводу в своей лекции. Для тех, кто может не знать его историю, Воронцовский дворец был построен между 1828 и 1844 годами Михаилом Воронцовым, первым генерал-губернатором российской провинции девятнадцатого века, тогда известной как Новороссия, и сыном посла Екатерины Великой в Англии. Архитектором Воронцовского дворца был Эдвард Блор, который также отвечал за завершение строительства Букингемского дворца после того, как Нэша уволили с работы за перерасход. Сестра Воронцова вышла замуж за графа Пембрука, тем самым закрепив связи Воронцовых с Англией. Сам Блор никогда не был в Крыму, но был хорошо осведомлен о его скалистых южных ландшафтах и послал Уильяма Ханта в качестве архитектора для проекта. Я не уверен в целесообразности почтового сообщения между Крымом и Англией в середине девятнадцатого века, но полагаю, что Уильяму Ханту пришлось бы самому принимать ряд решений. Одним из таких решений мог быть выбор камня для строительства дворца, для которого, как я полагаю, был открыт карьер недалеко от гор, недалеко от места.
Я не уверен в целесообразности почтового сообщения между Крымом и Англией в середине девятнадцатого века, но полагаю, что Уильяму Ханту пришлось бы самому принимать ряд решений. Одним из таких решений мог быть выбор камня для строительства дворца, для которого, как я полагаю, был открыт карьер недалеко от гор, недалеко от места.
«Воронцовском дворце, например, камень, выбранный для его постройки, идеально сочетается по цвету с горами позади и с большими скалистыми валунами в окрестностях»
Василевский продолжал:
«Я всегда хотел, чтобы и цвет санатория «Дружба» подошел бы к цвету скалы, на фоне которой он стоит, чтобы он мог слиться с ним так же, как Воронцовский дворец с горами за ним; архитектура должна сливаться с ландшафтом, а не наоборот. Белый как цвет отлично смотрится на берегу моря, краны в порту Ялты отлично смотрелись бы полностью выкрашенными в белый цвет, но когда вы ставите здание дальше от линии воды и в ландшафт, то оно должно уважать природу. и постарайтесь слиться с ним, а не стоять в стороне от него».
К несчастью для своего архитектора, у чешской команды, руководившей строительными работами, были очень четкие представления о том, что современная архитектура должна быть белой, и когда половина здания была уже построена в цвете скалы, они отвергли волю архитектора и приступили к покрасьте все здание в белый цвет, отделив его от цвета скалы, вместо того, чтобы смешать его с ним. Беседа добавляла полезное замечание любому изучающему его творчество: такое здание значительного масштаба и яркого дизайна, как санаторий «Дружба», не нужно выделять из ландшафта, а его комментарии о рукотворном бытии подвластны Natural может также объяснить, почему здание приподнято над землей на трех круглых вертикальных циркуляционных башнях, позволяя ландшафту течь под ним. Зеленая архитектура не только с точки зрения энергопотребления (санаторий «Дружба» использовал вентиляционные трубы с пассивным охлаждением задолго до того, как эта идея получила широкое распространение в последние годы), но и с точки зрения стремления ее архитектора уважать природу, не уклоняясь от строительства масштабного знакового сооружения.
